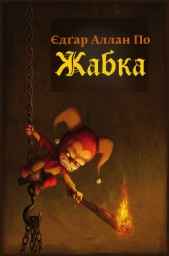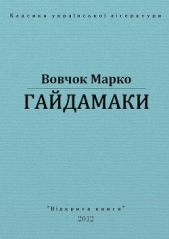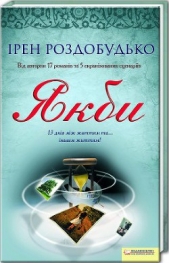Гайдамаки. Музыкант. Наймычка. Художник. Близнецы

Гайдамаки. Музыкант. Наймычка. Художник. Близнецы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Вот тебе, моя голубка сыза, – сказала она скороговоркою, – вот тебе и все наше господарство. Тепер заходымося варить обедать.
– Вари вже ты без мене, – сказала Лукия, улыбнувшись. – Вари, а я пойду до церквы.
– Разве уже дзвонылы?
– Скоро задзвонять.
И действительно, вскоре стали благовестить к повечерне. Лукия оделась и ушла в церковь. Хозяйка осталася одна и при– нялася за стряпню, тихо припевая:
Упылася я, Не за ваши я – В мене курка неслася, Я за яйця впылася.
Не знаю, как назвать подобные явления в семье человечества: жалкими или счастливыми. Я думаю, скорее счастливыми, потому что они на всякое житейское горе почти смеются, и это, не думайте, чтоб было от недостатка того, что мы называем чувством. Совсем нет. Они чувствуют по-своему. Вот хоть, например, и эта бедная поющая старушонка. Бог ее знает, быть может, песня эта у нее выражает самый злой сарказм, а может быть, и самую чувствительную элегию. Или она готова рассказать вам свое грустное похождение в Казань и обратно с непритворным смехом, а на чужое nojivrnne штпря зарыдать и сию же минуту утереть слезы, как ни в чем не бывало.
По-моему, счастливы подобные натуры.
Когда Лукия пришла из церкви, у ней уже готов был смиренный ужин. Вместо стола накрыла свою пустую б о д н ю, поставила на нее зажженную свечу, поставила свежую рыбу и поставила чверточку водки. От водки и рыбы Лукия отказалась по той причине, что она говеет.
– Не хочеш, то як хочеш, моя голубко сыза, а я на старости выпью.
– Выпый на здоровья.
После вечери они долго еще просидели – Лукия за работою, а хозяйка за рассказами да расспросами. Лукия шила своему сыну к празднику обнову – жупанок из красной китайки и белую рубашечку с мережаным комиром.
– Так ты его с тех пор и не видала, голубко сыза?
– Ни.
– Его недавно вывели из нашего села у какое-то другое село на квартиру. И что же ты думаешь? Найшлася така дура, что и туда за ным пошла. Может быть, знала Одарку Норив– н у, так вот она сама. Та й лыхо ж он с нею здесь и выделывал! Да и то правда, с одной ли ею!
При этом рассказе Лукия то бледнела, то краснела. Бедная женщина, неужели злость или ревность прокрадывается в твою смиренную душу? Забудь его, не стоит он твоего воспоминанья.
Так или почти так провожали они вечера в продолжении недели. Отговевшися, Лукия заложила лошадку, простилася с хозяйкою и выехала за село. В поле снегу уже почти не было, оставался кой-где по дороге, и то почерневший. Кое-как дотащилася она до Ромоданового шляху, а там оставила свои санишки, а лошадь повела за повод на хутор.
Уланы же, когда узнали о полюбовнице своего командира, то, глядя на нее, идущую из церкви, только улыбалися и усы крутили.
Сердобольные кумушки-соседушки, когда узнали, что она еще у московки квартировала, тогда и рукой махнули.
Лукия, возвратясь на хутор, не могла налюбоваться на своего Марочка. Она еще никогда на целую неделю с ним не разлучалась. В радости хотела было и сшитые ею обновы на него одеть, но поудержалась. Старики за радость ей объявили, что, когда она уехала говеть, в тот самый день приезжал к ним улан-охотник, брал Марка на руки, целовал его, любовался им и обещал к празднику такое ему подарить, что мы все зды– вуемся.
Лукия даже не улыбнулась, чем старики были недовольны. И когда она вышла из хаты, то Марта, лаская Марка, проговорила:
– Да ей-то что до тебя, моя дытыно! Ты для нее чужой, то ей и байдуже.
– Ну, ты вже пойдешь прибирать, – проворчал Яким, надел шапку и пошел на двор.
До праздника не посещал их улан-охотник по случаю распутицы, зато на праздники не проходило дня, чтобы он не посетил хутора и каждый раз не говорил, что почта не пришла еще из Петербурга, должно быть, по случаю распутицы. Случалось иногда, он заставал Лукию наедине, и тут меры не было его клятвам, что он ее полюбил пуще прежнего. Она уже на него почти не сердилась.
Подлый ты, лукавый человек! Чего ты от нее хочешь? Ужели для мгновенного скотского наслаждения ты возмущаешь ее едва успокоенное сердце?
Бедная ты, слабая ты женщина! Ты опять готова слушать его хитрые дьявольские речи. Ты опять готова впутаться в его ядовитую паутину. Ты готова забыть свое собственное прошедшее горе, горе отца и матери и даже их могилы!
Она и забыла бы (дьявол же искусил святого), она опять упала бы в бездну, и, может быть, упала б невозвратно, но, к счастью ее, уланам на фоминой неделе назначен поход в другую губернию. И это только обстоятельство спасло ее.
Каких усилий, какого тяжкого труда ей стоило переломить себя! И только одна благородная, возвышенная любовь матери спасла тебя от разверзавшейся в другой раз перед тобою пропасти. Без высокой любви своей к детищу пошла бы ты за эскадроном, как ходят тысячи тебе подобных. Сначала твой мылый-чорнобрывый остриг бы тебя и одел мальчиком (как сердечную Оксану), чтобы скрыть твой пол от товарищей, а через месяц он перестал бы тебя и скрывать, а на другой – играла бы тобою пьяная молодежь на бивуаках. На третий – ты бы для них устарела и опротивела, потому что ты опять забеременела, и возили б тебя вместе с дорогими собаками в телеге, потому что от тебя отвязаться нельзя, а тебе приютиться негде, кроме уланского обоза. И вот ты родила ночью под телегою. И только одна безмолвная свидетельница луна святая твоих физических страданий, а милосердный бог один утешитель и успокоитель твоей сердечной горести. Ты успокоилась немного, отерла слезы, прислушиваешься, – кругом все тихо, только едва слышно издали фырканье коней да вблизи чириканье кузнечика. Младенец твой молчит. Ты едва подняла– ся на ноги, берешь его и крадешься тихонько в степь из обоза, и, вышедши на дорогу, ты снова с нее своротила, потому что ты дороги боишься. Ты опять в степи и, уже далеко от дороги и обоза, кладешь свое дитя на душистую траву, и как волчица роет нору для своих будущих волченят, так ты, исступленная, роешь могилу для своего детища, встановися! Оно плачет, но ты не слышишь, тебе чудится вой волков в степи. Ямка готова, ты судорожно схватываешь дитя свое, бросаешь в яму, и у тебя недостало духу покрыть его землею, ты, как сумашедшая, бежишь в степь. О, какое благодеяние было б теперь для тебя помешательство! Но ты в изнеможении падаешь в траву и вскоре, как после страшного сна, пробуждаешься, и пробуждаешься на горе. Ты смутно, но все вспомнила и от изнеможения не можешь встать на ноги, – силишься, силишься и все напрасно. Так тебя и рассвет, и утро застает. Так тебя и полдневное солнце печет. Смерть близится к тебе. Но смерть грешников люта. Вечер освежает тебя, и ты, собравши остаток силы, ползешь в траве и, на свое горькое горе, выползаешь на дорогу. Тебя полуживую подняли чумаки и привезли в село, сдали добрым людям на руки, и ты медленно оживаешь. Выздоравливаешь. И полунагая отправляешься в корчму. Ты припомнила: когда тебя уланы вином поили, тебе было весело и ты забывалася. Но кто теперь тебе, нищей, подурневшей вина даст? Ты у жида в корчме нанялася носить воду за чвертку вина. Но увы! Вино не помогло, а злее еще напомнило тебе, что ты детоубийца! И разгоряченное воображение твое представляет бесконечный ряд страданий. «Что мне делать?» – ты в исступлении кричишь, а дьявол шепчет тебе на ухо: «Утопись!» И ты, послушная сатане, бежишь, быть может, к твоей родной Суле и топишься. Косари тебе помешали. Ты рассказала им свое преступление. Тебя в сельскую расправу, потом в тюрьму, потом в село твое родное да, не снимая кандалов, и на кобылу. А с кобылы прямехонько в Сибирь.
Могло случиться и иначе. Ты могла бы и подружиться с добрыми уланами – и попутешествовала б себе за их эскадронами во всякую погоду, как единородная мать Энея (у Котляревського):