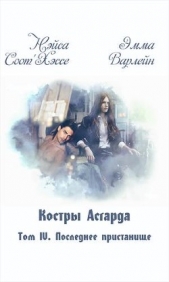Мне страшно жить и страшно умереть.
И там, и здесь отпугивает бездна.
Однако эта утварь, эта снедь
Душе моей по-прежнему любезна.
Любезен вид на свалку из окон
И разговор, где все насквозь знакомо,—
Затем, что жизнь сама себе закон,
А в смерти нет и этого закона.
Еще надежда теплится в дому
И к телу льнет последняя рубашка.
Молись за тех, Офелия, кому
Не страшно жить и умирать не тяжко.
Не будем цепляться за жизнь,
Забудем о слове «пощада»,
И рифмы не будем искать
Для жизни: ей рифмы не надо.
Мириться устала душа,
Пружинить устала рессора.
Не всякая жизнь хороша.
Да здравствует добрая ссора!
Когда назревает разрыв,
Не станем молить об отсрочке.
Соблазн многоточий забыв,
Поймем преимущество точки,
Падения праздничный взлет
И гордого люмпенства навык.
Увидит — сама приползет.
Но лучше без этих поправок.
Довольно! Прославим отказ
От муторной, мусорной тяжбы,
Похерить которую раз
Почетней, чем выиграть дважды!
Довольно мирить полюса,
Не станем искать компромисса —
Улисс был большая лиса,
Но Гектор был лучше Улисса.
И если за нами придут,
Не станем спасаться в подвале
Довольно мы прятались тут,
Пока нас еще не искали.
Посмеем однажды посметь.
Пускай оборвется цепочка:
Наш выбор — красивая смерть
И смерть некрасивая. Точка.
Не стоит смущаться душе
Легендой про выси и дали.
Что будет — все было уже.
Чего мы еще не видали?
Нам нечего здесь прославлять
Помимо цветов или пташек,
Нам некого здесь оставлять
Помимо мучителей наших.
Не будем цепляться за жизнь,
Когда на нее замахнутся,
И рифмы не будем искать
Для жизни: и так обойдутся.
Пока же расставлена снедь
И лампа в бутылку глядится —
Не будем цепляться за смерть.
Она нам еще пригодится.
Покойник так от жизни отстает,
Что тысяча реалий в час полночный
Меж вами недвусмысленно встает
И затрудняет диалог заочный.
Ему неясно, кто кого родил,
А тех, кто умер, — новая проблема,—
Он тоже не встречал, когда бродил
В пустынных кущах своего Эдема.
Он словно переспрашивает: как?
Как ты сказал? И новых сто понятий
Ты должен разъяснить ему, дурак,
Как будто нет у вас других занятий,
Как будто не пора, махнув рукой
На новостей немытую посуду,
Сквозь слезы прошептать ему, какой
Ужасный мир нас окружает всюду
И как несчастен мертвый, что теперь,
Когда навек задернулась завеса,
Здесь беззащитен был бы, словно зверь,
Забредший в город из ночного леса.
И кроткое незнанье мертвеца —
Кто с кем, какая власть, — мне так же жалко,
Как старческие немощи отца:
Дрожанье губ, очки, щетина, палка.
Я только тем утешиться могу,
Что дремлющей душе, лишенной тела,
В ее саду, в листве или в снегу
До новостей нет никакого дела,
Что памяти о мире дух лишен
И что моя ему досадна точность,
И разве что из вежливости он
О чем-то спросит — и забудет тотчас;
Что там, где наша вечная грызня
Бессмысленна и не грозна разруха,—
Бредет он вдаль, не глядя на меня,
Мои рыданья слушая вполуха.
Человек лежит в метро,
В переходе на Тверскую.
Врач хлопочет. Намело
В пять минут толпу людскую.
Бледный мент — и тут менты —
Разгоняет любопытных.
Из-за спин едва видны
Ноги в стоптанных ботинках,
И жены надрывный вой
Бьется в своды меловые.
— Помер, что ли?
— Нет, живой.
Хорошо, что мы живые.
Этот белый переход,
Где снуют чужие люди,
Так похож на страшный, тот,
Из дешевой книжки Муди,
По которому душа
(Ты как хочешь — я не верю)
Устремляется, спеша,
Словно поезд по тоннелю,
Покидая все навек,
Но в пути еще гадая,
Что там — выход ли наверх
Или станция другая,
Где такой же меловой —
Благо извести в избытке —
Низкий свод над головой
И кошмар второй попытки.
Страшно, страшно нам, живым,
Стыдно этого испуга —
Оттого-то норовим
Мимо, мимо, друг за друга
Хваткой мертвою, живой
Уцепившись крепко, крепко.
Что за подлость, Боже мой,
Это бегство, эта сцепка!
Но под вой чужой беды
В чем еще искать опоры?
О, кротовые ходы,
О, подпочвенные норы,
Где смешаемся с толпой,
Беспросветной и безвидной,
Жизнью связаны с тобой,
Словно тайною постыдной.