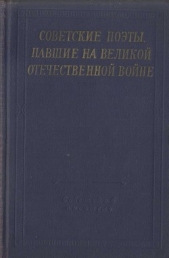Мне только б жить и видеть росчерк грубый
твоих бровей и пережить тот суд,
когда глаза солгут твои, а губы
чужое имя вслух произнесут.
Уйди, но так, чтоб я тебя не слышал,
не видел, чтобы, близким не грубя,
я дальше б жил и подымался выше,
как будто вовсе не было тебя.
«Я с поезда. Непроспанный, глухой…»
Я с поезда. Непроспанный, глухой.
В кашне, затянутом за пояс.
По голове погладь меня рукой,
примись ругать. Обратно шли на поезд.
Грозись бедой, невыгодой, концом.
Где б ни была ты — в поезде, вагоне, —
я все равно найду,
уткнусь лицом
в твои, как небо, светлые
ладони.
Я шел веселый и нескладный,
почти влюбленный, и никто
мне не сказал в дверях парадных,
что не застегнуто пальто.
Несло весной и чем-то теплым,
а от слободки, по низам,
шел первый дождь,
он бился в стекла,
гремел в ушах,
слепил глаза,
летел,
был слеп наполовину,
почти прямой. И вместе с ним
вступала боль сквозная в спину
недомоганием сплошным.
В тот день еще цветов не знали,
и лишь потом на всех углах
вразбивку бабы торговали,
сбывая радость второпях.
Ту радость трогали и мяли,
просили взять,
вдыхали в нос,
на грудь прикладывали,
брали
поштучно,
оптом
и вразнос.
Ее вносили к нам в квартиру,
как лампу, ставили на стол, —
лишь я один, должно быть, в мире
спокойно рядом с ней прошел.
Я был высок, как это небо,
меня не трогали цветы, —
я думал о бульварах, где бы
мне встретилась случайно ты,
с которой я лишь понаслышке,
по первой памяти знаком, —
дорогой, тронутой снежком,
носил твои из школы книжки…
Откликнись, что ли!
Только ветер
да дождь, идущий по прямой…
А надо вспомнить —
мы лишь дети,
которых снова ждут домой,
где чай остыл,
черствеет булка…
Так снова жизнь приходит к нам
последней партой, переулком,
где мы стояли по часам…
Так я иду, прямой, просторный,
а где-то сзади, невпопад,
проходит детство и валторны
словами песни говорят.
Мир только в детстве первозданен,
когда, себя не видя в нем,
мы бредим морем, поездами,
раскрытым настежь в сад окном,
чужою радостью, досадой,
зеленым льдом балтийских скал
и чьим-то слишком белым садом,
где ливень яблоки сбивал.
Пусть неуютно в нем, неладно,
нам снова хочется домой,
в тот мир простой, как лист тетрадный,
где я прошел, большой, нескладный
и удивительно прямой.
Им не воздвигли мраморной плиты.
На бугорке, где гроб землей накрыли,
как ощущенье вечной высоты
пропеллер неисправный положили.
И надписи отгранивать им рано —
ведь каждый, небо видевший, читал,
когда слова высокого чекана
пропеллер их на небе высекал.
И хоть рекорд достигнут ими не был,
хотя мотор и сдал на полпути, —
остановись, взгляни прямее в небо
и надпись ту, как мужество, прочти.
О, если б все с такою жаждой жили!
Чтоб на могилу им взамен плиты
как память ими взятой высоты
их инструмент разбитый положили
и лишь потом поставили цветы.
«Тогда была весна. И рядом…»
Тогда была весна. И рядом
с помойной ямой на дворе
в простом строю, равняясь на дом,
мальчишки строились в каре
и бились честно. Полагалось
бить в спину, грудь, еще — в бока.
Но на лицо не подымалась
сухая детская рука…
А за рекою было поле, —
там, сбившись в кучу у траншей,
солдаты били и кололи
таких же, как они, людей.
И мы росли, не понимая —
зачем туда сошлись полки:
неужли взрослые играют,
как мы сходясь на кулаки?
Война прошла. Но нам осталась
простая истина в удел,
что у детей имелась жалость,
которой взрослый не имел.
А ныне вновь война и порох
вошли в большие города
и стала нужной кровь, которой
мы так боялись в те года.