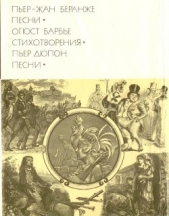Он, наконец, явился в дом,
где она сто лет вздыхала о нем,
куда он сам сто лет спешил:
ведь она так решила и он решил.
Клянусь, что это любовь была.
Посмотри — ведь это ее дела.
Но, знаешь, хоть Бога к себе призови,
всё равно ничего не понять в любви.
И поздний дождь в окно стучал,
и она молчала, и он молчал,
и он повернулся, чтобы уйти,
и она не припала к его груди.
Я клянусь, что и это любовь была.
Посмотри — ведь это ее дела.
Но, знаешь, хоть Бога к себе призови,
всё равно ничего не понять в любви.
Наша жизнь не игра.
Собираться пора.
Кант малинов, и лошади серы.
Господа юнкера,
кем вы были вчера?
А сегодня вы все — офицеры.
Господа юнкера,
кем вы были вчера
без лихой офицерской осанки?
Можно вспомнить опять
(ах, зачем вспоминать?),
как ходили гулять по Фонтанке.
Над гранитной Невой
гром стоит полковой,
да прощанье недорого стоит.
На германской войне
только пушки в цене,
а невесту другой успокоит.
Наша жизнь не игра.
В штыковую! Ура!..
Замерзают окопы пустые.
Господа юнкера,
кем вы были вчера?
Да и нынче вы все — холостые.
На фоне Пушкина снимается семейство.
Фотограф щелкает, и птичка вылетает.
Фотограф щелкает, но вот что интересно:
на фоне Пушкина! И птичка вылетает.
Все счеты кончены, и кончены все споры.
Тверская улица течет, куда, не знает.
Какие женщины на нас кидают взоры
и улыбаются… И птичка вылетает.
На фоне Пушкина снимается семейство.
Как обаятельны (для тех, кто понимает)
все наши глупости и мелкие злодейства
на фоне Пушкина! И птичка вылетает.
Мы будем счастливы (благодаренье снимку!).
Пусть жизнь короткая проносится и тает.
На веки вечные мы все теперь в обнимку
на фоне Пушкина! И птичка вылетает.
Тот самый двор, где я сажал березы,
был создан по законам вечной прозы
и образцом дворов арбатских слыл;
там, правда, не выращивались розы,
да и Гомер туда не заходил…
Зато поэт Глазков напротив жил.
Друг друга мы не знали совершенно,
но, познавая белый свет блаженно,
попеременно — снег, дожди и сушь,
разгулы будней, и подъездов глушь,
и мостовых дыханье, неизменно
мы ощущали близость наших душ.
Ильинку с Божедомкою, конечно,
не в наших нравах предавать поспешно,
и Усачевку, и Охотный ряд…
Мы с ними слиты чисто и безгрешно,
как с нашим детством — сорок лет подряд;
мы с детства их пророки… Но Арбат!
Минувшее тревожно забывая,
на долголетие втайне уповая,
всё медленней живем, всё тяжелей…
Но песня тридцать первого трамвая
с последней остановкой у Филей
звучит в ушах, от нас не отставая.
И если вам, читатель торопливый,
он не знаком, тот гордый, сиротливый,
извилистый, короткий коридор
от ресторана «Праги» до Смоляги
и рай, замаскированный под двор,
где все равны: и дети и бродяги,
спешите же… Всё остальное — вздор.
Заезжий музыкант целуется с трубою.
Пассажи по утрам, так просто, ни о чем.
Он любит не тебя, опомнись, Бог с тобою,
прижмись ко мне плечом! Прижмись ко мне плечом!
Живет он третий день в гостинице районной,
где койка у окна — всего лишь по рублю,
и на своей трубе, как чайник, раскаленной
вздыхает тяжело… А я тебя люблю.
Ты слушаешь его задумчиво и кротко,
как пенье соловья, как дождь и как прибой.
Его большой трубы простуженная глотка
отчаянно хрипит: труба, трубы, трубой.
Трубач играет гимн, трубач потеет в гамме,
трубач хрипит свое и кашляет, хрипя…
Но словно лик судьбы он весь в оконной раме,
да любит не тебя… А я люблю тебя.
Дождусь я лучших дней и новый плащ надену,
чтоб пред тобой проплыть, как поздний лист, кружа…
Не многого ль хочу, всему давая цену?
Не сладко ль я живу, тобой лишь дорожа?
Тебя не соблазнить ни платьями, ни снедью:
заезжий музыкант играет на трубе!
Что мир весь рядом с ней, с ее горячей медью?..
Судьба, судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе…
Отшумели песни нашего полка,
отзвенели звонкие копыта.
Пулями пробито днище котелка,
маркитантка юная убита.
Нас осталось мало: мы да наша боль.
Нас немного, и врагов немного.
Живы мы покуда — фронтовая голь,
а погибнем — райская дорога.
Руки на затворе, голова в тоске,
а душа уже взлетела вроде.
Для чего мы пишем кровью на песке?
Наши письма не нужны природе.
Спите себе, братцы, — всё придет опять:
новые родятся командиры,
новые солдаты будут получать
вечные казенные квартиры.
Спите себе, братцы, — всё начнется вновь,
всё должно в природе повториться:
и слова, и пули, и любовь, и кровь…
Времени не будет помириться.