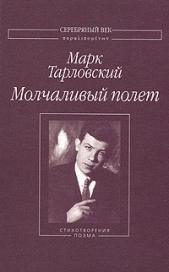Ну, братва, и бывает же вздор.
Чего со мной было — умора!
Выхожу я вчера на дозор
В подходящем месте для вора.
А идет это вроде пижон,
Пальто на нем без бахромок.
Я его, конечно, ножом:
Слегка попал, а слегка промах…
Закричать он хотя не успел,
Но привстал и блевнул красным,
И сказал — белый, как мел:
«Ты меня это, друг, напрасно.
Я не знал, что такой капут
Ожидает меня сегодня,
Голова моя весит пуд,
В этой ране — жар преисподней…
Губы жгут и воздух сосут…
Подойдите ближе, убийца,
Поднесите к лицу сосуд,
Помогите виску напиться!»
Он еще раз блевнул нутром
И шепнул: «У меня забота —
С самопишущим золотым пером
Возьми у меня листик блокнота.
Запиши мой последний стих,
Сочиненный мной по дороге,
И пошли его, ради всех святых,
В “Новый луч” или “Красные итоги”…»
Вижу я — от луны светло.
Дай, думаю, запишу частуху.
Прохрипел он мне тут свое барахло
(Без фамилии — не хватило духу).
И храню вот — без первых строк
(Выкурили гады в ночлежке):
«…Кратковременен жизненный срок,
Мы живем, обреченные спешке.
Чуть окрепнув, на самом краю
Уходящего вдаль виадука,
Мы провидим кончину свою
И страдаем за сына и внука.
О, не так ли суров народ
Золотого советского края
Ради милого сына живет,
Ради внука в боях умирая?
Этот жертвенный трепет атак,
Это счастье…» Не кончил — скрутило.
А здорово — так его так!
Экой парень чудило…
Это был обыкновенный клоп —
В меру трус и в меру кровопийца…
Ах, не хмурься, лавроносный лоб!
Снизойди, о лира олимпийца!
Что нам стоит рассказать хоть раз
Про дела и про заботы клопьи?
Всё равно ведь — для дневных прикрас
Мы стряхнем постельное охлопье! —
…Каждый день, в пуховую метель,
Звон матраца вызывал на дело,
Пел трубой и забирался в щель
Острый дух почиющего тела.
По пчелиной трубчатой игле
Кровяную передвинув подать,
Полной колбой клоп скользил во мгле,
Клоп спешил свой груз переработать.
Столько раз согрев и напитав
Красным медом золотую шкуру,
Знал он твердо — и его состав,
И давленье, и температуру.
Но случилось…Нектар стал горяч.
Бог потел, и это было ново.
Хоботочком, как домашний врач,
Клоп всю ночь выстукивал больного.
Продолжалось… Свет не погасал.
Кровь прогоркла. Изменив порядку,
Клоп дежурил, он слегка кусал,
Но не пил, а слушал лихорадку.
Жар осекся — и за пядью пядь
Начал падать, гнев сменив на милость.
Что же с кровью? Клоп не мог понять,
Почему она остановилась…
Он бежал от страшной тишины
И нашел за скважиной замочной,
На кровати мужа и жены,
Брагу тризны и уют полночный. —
Кровь гудела, но была сладка,
Кровь кипела, но не иссякала —
И текла в каналы хоботка,
Как вино венчального бокала…
Очевидец и свершитель треб,
В муках смерти и в пылу зачатий
Ты сосешь благоуханный хлеб
И на нем кладешь свои печати!
Но встают усталые с перин,
Жгут свечу, ругаясь словом скверным,
И шипит гробовый стеарин:
«Dies irae.. Requiem aeternam…» [106]
Слегка чудаковатый контур
За проволокою вольеры —
И вот американский кондор,
Который видел Кордильеры.
Сны детства! Разреженный воздух…
Майн-Рид…Кровать…Свечной огарок…
Страна индейцев, лам бесхвостых
И дорогих почтовых марок!
Во время школьных репетиций
Как было лестно — без запинки
Повествовать о хищной птице,
Которой поклонялись инки!
На ярмарках из марок ярких,
Чужак от областей надводных,
Ты шел в обмен на самых жарких,
На самых редкостных животных. —
Охваченный меняльным блудом,
За знак с твоею шеей голой
Я мог пожертвовать верблюдом,
Проштемпелеванным Анголой…
Но счастье лет, азартом полных.
Ты позабыл в тени вольеры —
Твой мир — наплеванный подсолнух
И праздничные кавалеры.