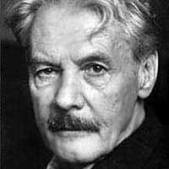«Его язык — клеймо железное, и в венах
Его не кровь, а желчь течет».
Двенадцать долгих лет с долин благословенных
Поэзии сбирал я мед.
Сот золотой я нес, и можно было видеть
По прежним всем стихам моим,
Умел ли с Музою я мстить и ненавидеть.
И Архилох, тоской томим,
Отцу невесты мстя, избил бичами ямба
Безумье нежное свое;
Но я не из груди предателя Ликамба
Для мести выдернул копье.
О, знайте! Молнии с моей сверкают лиры
За родину, не за себя.
И хлещут бешено бичи моей сатиры,
Лишь справедливость возлюбя.
Пусть извиваются и гидры и питоны,
Железом их, огнем клейми.
Их истребив дотла, воздвигнув вновь законы,
Мы снова станем все людьми!
…………………………………………………………………………….
…………………………………………
С худыми днищами прогнивших двадцать барок
Давали течь и шли ко дну,
Утопленников, трюм набивших, тщась теченьям
Луары тысячами сбыть, —
Служа проконсулу Карьеру развлеченьем
В часы похмелья, может быть.
И перьями строчат, как клерки фирмы трупной,
Вся свора наглая писак,
Весь этот трибунал, Фукье, Дюма — преступный
Воров, убийц ареопаг.
О, если б их настичь среди ночных веселий,
Когда они, разгорячась,
Став кровожаднее от запаха борделей,
И преступленьями кичась,
Косноязычные, бесчинствуют, икают;
Под крики, песенки и смех
Хвастливо жертв своих вчерашних вспоминают
И ждущих завтра казни всех.
И ищут пьяные, шатаясь, для объятий,
Чтоб без разбора целовать,
Любовниц тех и жен, что перешли с кроватей
Мужей казненных на кровать
Убийц их. Слабый пол! Таков его обычай:
Лишь тот, кто победить сумел,
Владеет женщиной, как взятою добычей,
И а[рбитр смерти, нагл и смел,
Срывает поцелуй. Он знает их уловки,
Ведь для настойчивой руки
И брошки их грудей и бедер их шнуровки
Не так уж колки и крепки.
Хотя бы совесть им за все дела воздала,
Но не смутит она уют
Полночный палачей, что в казнях до отвала
Кровь человеческую пьют.
О, банда грязная! Кто б мог в стихах искусных
Воспеть деянья их и дни?
Копье, разящее чудовищ этих гнусных,
Нечисто так же, как они.
С бесчестием своим свыкаются. Ведь надо
С бесчестием своим свыкаются. Ведь надо
И есть и спать. И даже тут,
В тюрьме, где держит смерть в загоне нас, как стадо,
Откуда под топор идут, —
Здесь тоже в этикет, в любовь и страсть играют.
Беснуясь целый день подряд,
Танцуют и поют, и юбки задирают,
Слагают песенки, острят.
Ребячась, выпустят воздушный шар на ленте,
Нагретый пустотой одной,
Как бредни шестисот ничтожеств тех в Конвенте,
Что властвуют сейчас страной.
Политиканствуя, от долгих споров хрипнут,
Смеются, чокаясь вином.
Но вдруг проржавленным железом двери всхлипнут,
И судей — тигров мажордом
Со списком явится. Кто будет их добычей,
Кого топор сегодня ждет?
Все слушают рожа, с покорностью бычьей,
И рады, что не их черед.
Назавтра ты пойдешь, животное тупой.
Как пышный луч зари, как нежный вздох зефира
Смягчает смертным дня уход,
Так путь на эшафот, о, облегчи мне, лира,
Быть может, близок мой черед.
Быть может, прежде чем, как арестант в прогулке,
По кругу, уходя во мрак,
Неумолимый час — шестидесятый гулкий
Поставит на эмали шаг, —
Меня могильный сон погрузит в ночь немую.
И прежде чем текучий стих,
Удачно начатый, созвучьем я срифмую,
Быть может, с эхом стен глухих
Вдруг вербовщи[к теней появится с набором
Кровавым, с ним — конвой солдат,
И имя выкрикнет мое по коридорам,
Где я, уединенью рад,
Брожу и стих точу, как лезвие кинжала,
Уж занести его готов;
И появленье их теченье рифм прервало,
И я иду под звон оков,
И мой уход для всех испуг и развлеченье, —
Столпились кучки у дверей,
И разделявшие со мною заключенье
Хотят забыть меня скорей.
Зачем еще мне жить? Иль трусам вновь примеры
Покажет мужество и честь,
И встрепенемся мы, исполненные веры,
Что где-то справедливость есть?
Иль над убийцами безжалостными грянет
Фемиды беспощадный суд,
И доблесть древняя воскреснет, и восстанет
Народ, друзья меня спасут?
О, что еще меня привязывает к жизни?
Над шеей молния ножа
Занесена. Мы все — рабы. Прощай, отчизна.
Все пресмыкаемся дрожа.
Приди скорее, смерть, и дай освобожденье.
Но и пред сумраком могил
Я злу не покорюсь. Когда б пришло спасенье,
Для добродетели б я жил.
Страх смерти — стойкости у мужа не отнимет,
И как ему ни тяжело,
Громя насилие, он высоко поднимет,
Идя на казнь, свое чело.
Омытое не в кровь, как шпага, а в чернила,
Борясь за правду и добро,
И человечеству еще бы послужило
И родине — мое перо.
О, правосудие, коль я тебя ни словом,
Ни мыслью тайной не задел,
И если блещет гнев на лбу твоем суровом
При виде Беззаконных дел,
И если черни смех и казней испаренья
Дошли к тебе на высоту, —
Скорее прекрати над истиной глумленье,
Спаси от смерти руку ту,
Что держит молнию твоей священной мести.
Как! Кончить с жизнью своей
И не смешать, клеймя презреньем, с грязью вместе
Всех этих низких палачей,
Тиранов, сделавших всю Францию рабою,
Которые живут, киша,
Как черви в трупе!.. О, мое перо! Тобою
Одним жива моя душа.
Как иногда огонь погасший вдруг подбросит
Смола, под пеплом разлита, —
Я мучусь, но живу. С тобой в стихах уносит
Меня от бедствий всех мечта.
А без тебя, как яд губительный свинцовый, —
Тюрьмы позорное клеймо.
И произвол, всегда кровь проливать готовый,
И стыд за рабское ярмо.
Несчастия друзей, проскрипции, убийства,
Негодованье и печаль, —
Всё иссушает жизнь, всё для самоубийства
Мне в руку вкладывает сталь.
Как! Никого, кто б мог в историю злодейства
Все занести и имена
Казненных сохранить, утешить их семейства.
На вечные бы времена,
На ужас извергам дать их портрет кровавый;
Нарушив преисподней сон,
Взять у нее тот бич тройной, что над оравой
Разбойничьей их занесен.
И харкнуть им в лицо, и жертвы их прославить…
О, Муза, в этот страшный час
Умолкни! Если нас посмеют обезглавить,
Оплачет добродетель нас!