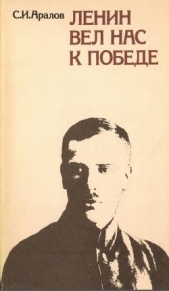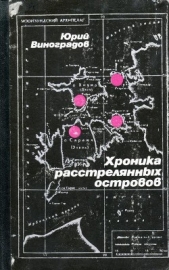Как оживился пионерский лагерь,
Когда он, кончив кропотливый труд,
Легко раскрыл из розовой бумаги
Им сделанный впервые парашют.
Рвался из сердца радости избыток,
Когда, с березы брошенный, шурша,
На тонких стропах из суровых ниток
Нес парашютик два карандаша…
Горит закат. Дорогою знакомой,
Чуть угловат, медлителен, плечист,
Идет не торопясь с аэродрома
Известный чемпион-парашютист.
В его глазах мелькают жест пилота,
И купол неба светло-голубой,
И шаг с крыла, и тень от самолета,
И струны строп, и шелк над головой.
А он, рукою волосы откинув,
Припомнит лето, лагерные дни,
Как сквозь туман, неясные картины
Вдруг проплывут из детства перед ним.
Он вновь увидит пионерский лагерь,
Он вспомнит долгий, кропотливый труд
И первый свой из розовой бумаги
Им сделанный когда-то парашют.
Есть в голосе моем звучание металла.
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.
Не все умрет, не все войдет в каталог.
Но только пусть под именем моим
потомок различит в архивном хламе
кусок горячей, верной нам земли,
где мы прошли с обугленными ртами
и мужество, как знамя, пронесли.
Мы жгли костры и вспять пускали реки.
Нам не хватало неба и воды.
Упрямой жизни в каждом человеке
железом обозначены следы, —
так в нас запали прошлого приметы.
А как любили мы — спросите жен!
Пройдут века, и вам солгут портреты,
где нашей жизни ход изображен.
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
о людях, что ушли, не долюбив,
не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
крутых путей к последней высоте,
мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
в столбцах газет, в набросках на холсте.
Но время шло. Меняли реки русла.
И жили мы, не тратя лишних слов,
чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных
да в серой прозе наших дневников.
Мы брали пламя голыми руками.
Грудь раскрывали ветру. Из ковша
тянули воду полными глотками.
И в женщину влюблялись не спеша.
И шли вперед, и падали, и, еле
в обмотках грубых ноги волоча,
мы видели, как женщины глядели
на нашего шального трубача,
а тот трубил, мир ни во что не ставя
(ремень сползал с покатого плеча),
он тоже дома женщину оставил,
не оглянувшись даже сгоряча.
Был камень тверд, уступы каменисты,
почти со всех сторон окружены,
глядели вверх — и небо было чисто,
как светлый лоб оставленной жены.
Так я пишу. Пусть не точны слова,
и слог тяжел, и выраженья грубы!
О нас прошла всесветная молва.
Нам жажда выпрямила губы.
Мир, как окно, для воздуха распахнут,
он нами пройден, пройден до конца,
и хорошо, что руки наши пахнут
угрюмой песней верного свинца.
И, как бы ни давили память годы,
нас не забудут потому вовек,
что, всей планете делая погоду,
мы в плоть одели слово «человек»!
Приду к тебе и в памяти оставлю
застой вещей, идущих на износ,
спокойный сон ночного Ярославля
и древний запах бронзовых волос.
Все это так на правду не похоже
и вместе с тем понятно и светло,
как будто я упрямее и строже
взглянул на этот мир через стекло.
И мир встает столетье за столетьем,
и тот художник гениален был,
кто совершенство форм его заметил
и первый трепет жизни ощутил.
И был тот час, когда, от стужи хмурый,
и грубый корм свой поднося к губе,
и кутаясь в тепло звериной шкуры,
он в первый раз подумал о тебе.
Он слушал ветра голос многоустый
и видел своды первозданных скал,
влюбляясь в жизнь, он выдумал искусство
и образ твой в пещере изваял.
Пусть истукан массивен был и груб
и походил скорей на чью-то тушу,
но человеку был тот идол люб:
он в каменную складку губ
все мастерство вложил свое и душу.
Так, впроголодь живя, кореньями питаясь,
он различил однажды неба цвет.
Тогда в него навек вселилась зависть
к той гамме красок. Он открыл секрет
бессмертья их. И где б теперь он ни был,
куда б ни шел, он всюду их искал.
Так, раз вступив в соперничество с небом,
он навсегда к нему возревновал.
Он гальку взял и так раскрасил камень,
такое людям бросил торжество,
что ты сдалась, когда, припав губами
к его руке, поверила в него.
Вот потому ты много больше значишь,
чем эта ночь в исходе сентября.
Мне даже хорошо, когда ты плачешь,
сквозь слезы о прекрасном говоря.