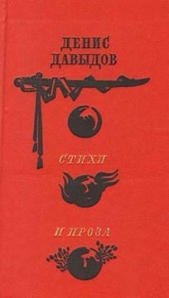Стихотворения. Поэмы. Проза

Стихотворения. Поэмы. Проза читать книгу онлайн
Яков Петрович Полонский (1819–1898) — замечательный лирик, обладающий в наивысшей степени тем, что Белинский в статье о нем назвал "чистым элементом поэзии". В его творчестве отразилась история всей русской классической поэзии XIX века: Полонский — младший современник Жуковского и старший современник Блока.
Яков Петрович Полонский — как бы живая история русской поэзии XIX века. Его творчество захватило своими краями всю классическую русскую поэзию: первые стихотворные опыты гимназиста Полонского заслужили одобрение Жуковского, и вместе с тем имя Полонского еще было живым поэтическим именем, когда начал писать Блок, для которого поэзия Полонского была «одним из основных литературных влияний». Среди поэтов конца века, с их духовным и стилевым разладом, Полонский занимает особое место — в его лирике воплотилось то лучшее, что дал поэзии XIX век: неразложимая цельность и глубина содержания, свобода и естественность выражения, благородство и прямодушие, твердая ясность идеала.
Хотя Полонский писал и поэмы, и рассказы, и воспоминания (особенно замечательны — о Тургеневе, с их подкупающим сочетанием простодушия и проницательности), все же он, конечно, прежде всего — лирический поэт, обладающий в наивысшей степени тем, что Белинский в статье о нем назвал «чистым элементом поэзии». Пожалуй, ни о ком другом этого нельзя сказать с такой определенностью, как о Полонском: никакая другая жизненная роль «не подходила» ему, кроме роли поэта.
В каком-то смысле Полонский был центром, точкой пересечения множества литературных, общественных, личных отношений своего времени. Место это принадлежит ему не по размаху и мощи поэтического гения, не по резкости и оригинальности общественной позиции, но по особой, одному Полонскому в такой мере свойственной поэтической отзывчивости, живого и как бы неизбежного отклика на все совершающееся вокруг него. Органическое, «стихийно певческое» начало в сочетании с постоянной готовностью души к отклику и создают в первую очередь своеобразие поэтической личности Полонского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
-- Я это очень понимаю,-- сказал Дусов,-- я сам нынче встал не в духе и очень беспокоился; вчера потерял манишку,-- думаю себе: ну, в присутствие,-- куда ни шло, застегнусь,-- а вот как же я пойду обедать? -- и проч.
Все это, все эти разговоры я очень помню, потому что душой и сердцем принимала в них участие. Я люблю так же рыться в моих воспоминаниях, как другие любят читать рассказы. Из той атмосферы, которой я дышала до моего замужества, я вдруг перешла в другую жизнь, в мир таких слов и поступков, к которым надо привыкать, чтоб они не казались преувеличенно странными. Да простит мне бог, если я ошибаюсь! Вечером я и Дусов пошли к часовне, откуда видна была проселочная дорога из Москвы. Только что мы вышли, вдруг идет к нам навстречу высокая, очень красивая дама. На ней была турецкая шаль, соломенная шляпка, голубые перчатки, браслеты и уж я не знаю, чего на ней не было. Из-под шляпки выбивались два густых черных локона, черные глаза щурились от солнца. В лучах вечера она была блистательна.
-- Не знаете ли,-- спросила она по-французски,-- где живет Александр Алтаев?
-- Мой муж? вот где он живет,-- отвечала я, указывая пальцем на домик наш.
-- Ах! вы жена его! я очень рада случаю с вами познакомиться,-- проговорила она, осматривая меня с ног до головы.-- Я давно знакома с вашим мужем, он был всегда одним из первых друзей моих. Могу ли я его теперь видеть? -- и проч. и проч.
-- Нет, его нет дома,-- отвечала я холодно.
-- Когда же я могу?..-- продолжала она, смотря мне прямо в глаза.
-- Он, верно, всегда будет очень рад вас видеть. Он теперь в Москве,-- говорила я, теряясь.
-- Как вы любезны!-- сказала дама.-- Скажите ему... что у него был один старинный друг, а именно Лизавета Сергеевна Фильд, и скажите... что я -- если только я не помешаю вам,-- на днях же постараюсь увидеть его. Прощайте.
Она пошла своей дорогой, мы своей.
-- Вы не знаете,-- спросила я Дусова,-- кто эта женщина?
Он отозвался, что не знает. Ее появление меня заинтриговало. Я не знала, как понять слова "неизменный друг" в устах посторонней женщины. Да и кто, думала я, смеет быть неизменным другом моего мужа, кроме жены?
Издали узнала я моего Александра, его серое летнее пальто, его шляпу. Издали, пока он ехал, я, стоя на дороге, махала ему платком. Когда у часовни он сошел с дрожек, я бросилась обнимать его. Клянусь, я была так рада, так рада, что все забыла, даже забыла эту ненавистную Лизавету Фильд. Он улыбался очень любезно, но... что говорить! Я почти убедилась, что он разлюбил меня. Молча шла я домой с ним под руку. Он уговаривал Дусова догнать извозчика и давал ему рубль на дорогу. Бедный Дусов не согласился взять рубль, хоть это ему и очень хотелось.
-- Нет,-- говорил он,-- я люблю ночью пешком ходить.
-- А кладбище? -- сказал муж.
-- А что мне кладбище! -- сказал Дусов.
-- Если я умру, придешь ли ты ко мне ночью на могилу? -- спросил муж.
-- Приду со штофом водки и напьюсь,-- отвечал Дусов.
-- Хорошо,-- сказал муж.
Чтоб прекратить этот разговор, я сказала Александру, что его искала какая-то женщина, Елизавета Фильд.
-- Неужели! Боже мой! Какая досада, что я не видел ее! Как я рад, как я рад, что она в Москве,-- начал радоваться муж мой. Да, я видела, как он радовался, и горько стало мне, что, не видавшись целый день, он не обрадовался жене своей. Дусов ушел в Москву пешком. Мы пришли домой часу в девятом вечера. В роще пели соловьи; мы при свете месяца сели на террасе слушать их. Но не соловьиные песни звучали в душе моей. По обыкновению умно и просто говорил он со мной до поздней ночи, говорил много о здании всей природы, о чудесах неба и земли, о бесконечности вселенной, об отдаленности звезд... но что мне было за дело до его ума: ум его не грел меня, от него я чувствовала легкую дрожь, и только. Я говорила ему: да... да... ты прав... или молча глядела на звезды, а на глазах у меня были слезы.
-- Помню я ночи,-- говорил Александр слабеющим голосом,-- ночи на озере Четырех кантонов; Лизавета Сергеевна тогда была со мной, была моложе, а стало быть, и лучше, и чище сердцем. Мы плыли в лодке в тени лесистой мрачной скалы и видели вдали огоньки и серебряные, легкие облака над темной массой прибрежных садов и проч. и проч. Лизавета Сергеевна пела, так пела, как никогда не пела,-- и проч. и проч. Я не могу вам передать тех картин, которые, как будто назло мне, так ярко рисовались в его памяти... Тут он простодушно рассказал мне историю, всю жизнь этой Лизаветы Сергеевны. Она была нечто вроде Лукреции Флориани... И эта женщина, думала я, смеет называть другом моего Александра!
-- Она,-- сказала я нерешительно,-- она говорит, что ты один из первых друзей ее.
-- Правда,-- сказал он,-- это правда! О, это редкая женщина! душа, каких немного... Из тонких и чутких нерв соткала ее природа. Я давно не видел ее. Очень может быть, что и она взвизгивает, а не поет. Я ее очень люблю и очень буду рад ей.
-- Ты ее очень -- любишь? -- спросила я помолчав.
-- Ведь я сказал тебе, что очень,-- произнес он, возвысив голос, и посмотрел на меня так, как будто вдруг, разом отгадал мои мысли.
-- Не пора ли спать,-- сказала я и вышла.
Он остался на галерее (кажется, эту галерею я назвала террасой, но это была вовсе не терраса, а просто деревянный, широкий балкон с двумя или тремя ступеньками вниз).
Опять горячо и долго молилась я в спальне, прежде чем легла и задула свечку, и опять не могла заснуть. Неровными шагами ходил по балкону муж мой. Я ждала -- и слушала шаги его. Прошел час, прошло два, и не знаю, сколько прошло времени, я не могла спать, я все ждала его. Я хотела у самого биения сердца его допроситься тайны, любит он меня или уже не любит. Мое ожидание, наконец, перешло в лихорадочное беспокойство, хоть я и слышала близко, под самым окном, шаги его. Я ощупью на спальном столике нашла часы и подавила пружинку -- прозвенело час и три четверти. Ах, как еще не поздно и какая длинная ночь!.. Я тихо встала; в темноте надела пеньюар, нашла свои туфли, накинула на голову платок, тихонько отворила дверь и вышла в сени,-- вышла в сени и отворила другую дверь... Что именно я хотела сказать ему, не помню; но мне так хотелось что-то сказать ему,-- а его уже не было! Все было пусто и тихо в месячных лучах. О, знаете ли вы, какое мучение любить! Я бы дала полжизни, чтоб в эту минуту он был со мной -- а зачем и почему именно в эту минуту! -- кто поймет, кто решит капризы женского сердца!.. Я облокотилась на деревянную решетку; прохладный воздух не освежал меня, на соседнем дворе выла собака, роса тускло блестела на траве, роща выходила из какого-то мутного облака... И он ушел в такую сырую ночь, по такой мокрой траве и так легко одетый!, он, который на ночь так редко забывал опускать окошки!.. Куда же он ушел? зачем? неужели я так страшна, что он бежит от меня даже ночью? Уж не госпожа ли Фильд назначила ему в эту ночь свидание? Мои фантазии до того разыгрались, приходили в голову такие грустные мысли, что слезы сами собой текли по щекам. Я плакала и ждала,-- ждала и тихо плакала. Не раньше, как показалась белая заря и зачиликали воробьи в кустах, а туман потянулся к небу, с распухшими глазами я покинула балкон и ничком бросилась на смятую постель. Наконец, бог послал мне силы,-- я решилась: пусть, думаю, он делает, что хочет, не любит, скучает или не верит мне, я поклялась быть его женой и буду молча любить... молча помогать ему, а когда умру -- я была уверена, что умру скоро,-- такая боль была у меня в груди -- пусть он почувствует, что ему не достает кого-то,-- и проч. и проч.
Утром часу в девятом явился он домой; я была уже одета и сидела за самоваром. Где он был, я его не спросила. Я даже с притворным равнодушием посмотрела на измятое, бледное лицо его, беспорядок его волос и спросила: не хочет ли он чаю.
-- Очень рад, дай! -- сказал он и протянул мне руку.