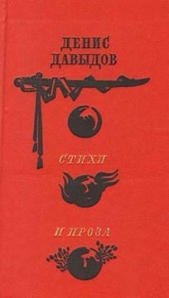Стихотворения. Поэмы. Проза

Стихотворения. Поэмы. Проза читать книгу онлайн
Яков Петрович Полонский (1819–1898) — замечательный лирик, обладающий в наивысшей степени тем, что Белинский в статье о нем назвал "чистым элементом поэзии". В его творчестве отразилась история всей русской классической поэзии XIX века: Полонский — младший современник Жуковского и старший современник Блока.
Яков Петрович Полонский — как бы живая история русской поэзии XIX века. Его творчество захватило своими краями всю классическую русскую поэзию: первые стихотворные опыты гимназиста Полонского заслужили одобрение Жуковского, и вместе с тем имя Полонского еще было живым поэтическим именем, когда начал писать Блок, для которого поэзия Полонского была «одним из основных литературных влияний». Среди поэтов конца века, с их духовным и стилевым разладом, Полонский занимает особое место — в его лирике воплотилось то лучшее, что дал поэзии XIX век: неразложимая цельность и глубина содержания, свобода и естественность выражения, благородство и прямодушие, твердая ясность идеала.
Хотя Полонский писал и поэмы, и рассказы, и воспоминания (особенно замечательны — о Тургеневе, с их подкупающим сочетанием простодушия и проницательности), все же он, конечно, прежде всего — лирический поэт, обладающий в наивысшей степени тем, что Белинский в статье о нем назвал «чистым элементом поэзии». Пожалуй, ни о ком другом этого нельзя сказать с такой определенностью, как о Полонском: никакая другая жизненная роль «не подходила» ему, кроме роли поэта.
В каком-то смысле Полонский был центром, точкой пересечения множества литературных, общественных, личных отношений своего времени. Место это принадлежит ему не по размаху и мощи поэтического гения, не по резкости и оригинальности общественной позиции, но по особой, одному Полонскому в такой мере свойственной поэтической отзывчивости, живого и как бы неизбежного отклика на все совершающееся вокруг него. Органическое, «стихийно певческое» начало в сочетании с постоянной готовностью души к отклику и создают в первую очередь своеобразие поэтической личности Полонского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
-- Меня все бранят,-- сказала она,-- что я до сих пор не скидаю черного платья, неужели вы думаете, что это я делаю из кокетства?
-- Нет.
-- Ну, быть может, вы полагаете -- из экономии, чтоб не шить лишних платьев?
-- Нет, я и этого вовсе не думаю.
-- Что ж вы думаете?..
Я хотел что-то сказать, но нашел это "что-то" неуместным и промолчал.
-- Если я не скидаю траура, значит, помню того, по ком я ношу его, значит, я еще люблю. Пусть даже это будет тень -- призрак -- мечта.
Последние слова произнесла она так, как будто я уже возражаю ей, не без раздражения в голосе; руки приподнялись, в глазах пробежала искра.
-- Ваш призрак,-- сказал я не без горечи,-- и не поймет вас, и не будет вам сочувствовать, а любить мечту -- это даже преступление. Вправе ли вы так рано похоронить ваше сердце?
-- Сам себя никто не хоронит: хоронят другие.
Ответ не глуп, подумал я про себя, и заговорил, слегка дотронувшись до ее нежной и худой руки:
-- Ну так воскресните! встрепенитесь! оживите!
Она молчала. Я ждал...
-- А как вы думаете, муж мой слышит теперь наш разговор или нет?-- спросила она, потупившись.
-- Я уверен, что нет,-- отвечал я, засмеявшись. Мне показалось в эту минуту, что она шутит.
-- А почему вы так уверены? -- спросила она, посмотревши мне в глаза с вопрошающим недоумением.
-- Неужели вы не шутя думаете, что тень или душа вашего мужа ревнует к вам? Оставьте живое живым...
-- Я знаю, что он не ревнует... Я не этого хочу.
"Чего она, глупая, хочет?" -- подумал я.
-- Думайте, что я глупа,-- продолжала она спокойно.-- Можете даже подумать, что я немножко помешана.
Меня ошеломила эта проницательность; невольно пришло мне в голову замечание какого-то доктора, что сумасшедшие отличаются иногда необыкновенной проницательностью.
-- Когда муж мой был жив,-- сказала Марья Игнатьевна,-- он ничему и никому не верил, я хочу, чтоб он хоть теперь чему-нибудь да верил. Понимаете?
-- Не понимаю...
-- Разве вы не знаете, что...
-- Что?
-- Вы не верите... ну, хоть вертящимся столам?
-- Что они вертятся, это я вижу, а отчего вертятся -- я еще не знаю, знаю только, что в этом нет ничего сверхъестественного и что быть его не может в естестве, т. е. в природе.
-- Я и сама не вижу в этом ничего сверхъестественного. Сообщение душ -- это, вероятно, в законах природы, которой мы также не знаем...
-- А! я и не знал, что вы такой мистик!
-- А, вот видите, надо прежде узнать и уже потом любить,-- проговорила она с живостью, положа указательный палец правой руки на ладонь левой.-- В том-то наша и беда, что мы не зная любим.
-- Помилуйте,-- сказал я,-- что ж это за любовь, которая все видит и все знает. Я могу любить вас со всеми слабостями и даже дурными сторонами вашего характера, тем более, что любовь не отталкивает некоторых наших странностей, а напротив, охотно уживается с ними, любит их прощать и проч. и проч.
Она задумалась...
-- Быть может, вы и правы,-- начала она медленно, как бы не решаясь сознаться, что я прав,-- раз уж я была наказана такою любовью. Только месяц была я замужем -- месяц страданий!-- и я готова не только простить, рада воротить этот страшный месяц...
Я знал, что она была замужем не более шести недель... но, заинтересованный разговором меланхолической вдовушки, мне захотелось мало-помалу заставить ее рассказать мне историю любви своей. Женщины, рассказывая о давно потухшей страсти или о слезах, пролитых ими над прахом их возлюбленных, так иногда странно настраивают свою душу, что готовы полюбить вторично и именно того, кому они все это рассказывают. Марья Игнатьевна была исключением, но ведь кто ж знал, что наткнусь на исключение... Я начал с того, что воскликнул с самым наивным изумлением:
-- Неужели только месяц!
-- Да...
-- Один только медовый месяц! Скажите, вас принудили выйти замуж или вы сами вышли?
Такими вопросами мало-помалу я довел ее до рассказа, который в кратких словах и передаю вам, но вряд ли передам вам эту мягкость ее голоса, эту живую непоследовательность речи. Сначала она только отвечала мне и то не совсем охотно; под конец говорила так, как будто меня тут вовсе не было, говорила, глядя то на красные вечерние облака, то в глубину темной сосновой рощи, которая с каждым часом становилась глуше и безлюднее. Признаюсь вам, я никогда не думал, чтоб женщина в здравом уме могла что-либо рассказывать, забывая слушателя.
Так говорила она между прочим:
-- По принуждению...-- нет! Я не могла выйти по принуждению. Меня любили, баловали, глядели на меня, как на родную дочь. Ах, как меня баловали! Я сама захотела -- и меня послушались. Моего жениха никто не знал, он свалился, как с неба; родные, у которых я жила, конечно, старались, прежде чем дали слово, узнать, что это за человек, но в Москве его также никто не знал. Все последнее время он был за границей, учился и разъезжал. Он был далеко не беден, у него было даже порядочное состояние и большие связи в тех кружках, куда мы очень редко ездили. Графиня К. была его теткой. Богачи Ипатовы были также ему сродни. Он готовился быть профессором, но был человеком светским, вел рассеянную жизнь, такую, знаете, какую ведут артисты. Одна наша знакомая была с ним очень дружна и приходила в восторг от его заграничных писем. Кузен мой, Саша Л......, был также от него без ума; он-то и ввел его в наш патриархальный круг. Когда он был у нас в первый раз... не знаю, что и сказать вам! это было накануне летнего Николы -- мы тогда жили на Арбате -- он приехал к нам после всеношной; я ничего не знала и спокойно разливала чай в соседней комнате. В гостиной были гости; я услыхала новый, незнакомый в нашем доме, голос, и сама не знаю... чего я испугалась: сердце мое так забилось, так сильно забилось! Я отвернула кран самовара и стала вслушиваться. Переполнила чайник и чуть не обварила себе пальцы. Потом я вошла в гостиную, присела и отошла в уголок. Петя подозвал меня и упросил меня сесть к ним поближе. В голосе гостя была какая-то дивно певучая струна, от которой все лицо мое горело. Я почувствовала неловкость... мне и уйти хотелось и хотелось остаться. Все с жадностью слушали его, так говорил он умно, так был остер и мил, бледное истомленное лицо его казалось мне самым живым лицом из тысячи лиц, которые я видела, и улыбка у него была волшебная, и блеск его темных глаз казался таким золотым, таким добрым и ласковым! Он стал чаще ездить к нам, и я скоро с ним познакомилась. Сначала я дичилась. Мне казалось, что он смеется надо мной. Думала, боже мой! -- все меня обманывает, все -- и его голос обманывает, и слово, и каждый взгляд!.. Я не только никого не любила, я даже не понимала романов, где описывались страсти; в доме шутя звали меня монашенкой, у меня была мечта в какой-нибудь пустыни кончить мою молодость. Как же это могло случиться, что я влюбилась. Мы, разговаривая, постепенно и незаметно признавались друг другу. Он стал склонять меня на тайное свидание в саду... я пришла в ужас; помню, отошла от него к дверям, остановилась на пороге и отрицательно покачала головой. Всю ночь, однако ж, снилось мне, что я иду к нему в сад... несколько раз просыпалась и опять засыпала, и опять мне чудилось, что я иду к нему... На другой день, вечером, я узнала, что он у дяди просил руки моей. О, как глубока, как искренна была моя радость! Все узнали, что я влюблена, и повесили голову. Домашним стало жаль со мной расстаться, стариков пугала неизвестность. Хотели на целый год отсрочить свадьбу. Но Алтаев не хотел ни денег, ни приданого, это всем нравилось, всех убедило -- и недели через три решили: быть нашей свадьбе. Странны казались мне иногда слова моего милого, но тогда я мало вникала в их значение; так, раз говорил он: не могу надивиться живучести моего сердца, откуда вдруг -- опять -- любовь! Я люблю вас глубоко и свято и боюсь -- эта свадьба -- эта брачная жизнь помешает мне любить вас... Я приписывала это той невольной застенчивости, в которой мужчины редко признаются. К браку я готовилась, как к великому таинству; он был грустен и мрачен накануне свадьбы. "Ну вот, господа,-- говорил он своим старым товарищам,-- и я, как отравленный Сократ, приношу жертву Эскулапу". В церкви, когда кончилось венчание, подошла к нему с поздравлением крестная мать его, какая-то очень пожилая, сутуловатая дама с седыми пуклями. "Надеюсь, мой милый,-- сказала она,-- ты теперь не станешь делать глупостей".-- "Ох! да,-- отвечал он, держа меня за руку,-- это моя последняя, самая непростительная глупость!" Я с испугом взглянула ему в лицо. Но он был весел, шутил, острил, смеялся, и я успокоилась. Я все до мельчайших подробностей помню, что было в этот вечер, как мы приехали на его квартиру, как пили шампанское и с какими лицами мои старики прощались со мной в передней, как потом Александр, жених мой, часу в десятом, куда-то уехал с шафером. Я осталась одна с Лизаветой, женой нашего дворецкого, она должна была раздеть меня... Новость комнат, убранство спальни, все это меня и радовало, и пугало, и волновало... Я переоделась, сняла с головы подвенечные белые цветы, села в кресла, складывала охолодевшие пальцы, рассматривала венчальное кольцо мое, как бы недоумевая, точно ли я замужем, не сон ли это и как это могло случиться? Ждала его, боялась, что он приедет, и опять ждала. Пришла полночь, я дремала от усталости, просыпалась в испуге, вставала и с лихорадкой в сердце ходила по комнате. Лизавета отворяла дверь, дивилась, ахала -- куда пропал жених мой, даже начинала бранить его... уговаривала меня лечь спать, а я Христом богом умоляла ее оставить меня в покое. Около двух часов пополуночи я вздрогнула: прогремел экипаж, и раздался звонок. Веселый, во фраке и в белом галстуке, вошел он в спальню.