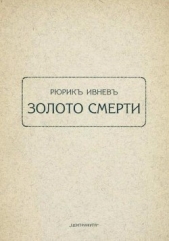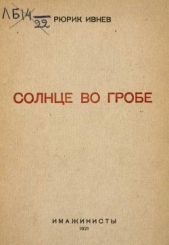Часы и голоса

Часы и голоса читать книгу онлайн
Рюрик Ивнев — поэт и человек интересной судьбы. Первая его книга стихов увидела свет в 1912 году, представив его в основном как поэта-модерниста. В 1917 году Рюрик Ивнев решительно принял сторону революции, став на защиту ее интересов в среде русской интеллигенции. Р. Ивнев знал многих больших людей начала XX века, и среди них — Горький. Маяковский, Блок, Брюсов, Есенин…В настоящую книгу вошли избранные стихи большого временного диапазона, которые могут характеризовать творческий путь поэта. В книгу включены воспоминания Р. Ивнева о Блоке, Маяковском и Есенине, в воспоминаниях присутствуют живые приметы того далекого уже от нас времени.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И над всем этим витает маленькое облачко все более и более увеличивающегося желания пойти к Александру Блоку. Оно вырастало как бы пробиваясь через ограду юношеской скромности, препятствовавшей ворваться без спроса в жизнь большого поэта. Только в эти дни я понял по-настоящему, что спор с самим собой куда труднее спора с другими. Мой товарищ Юра Ясницкий говорил мне, что если я не решусь пойти к Блоку теперь, когда он живет рядом с нами, то я уже никогда к нему не соберусь, и добавлял: «И будешь потом рвать на себе волосы».
И вот я решился. Волнуясь с каждой ступенькой все больше, поднялся по лестнице и нажал наконец кнопку звонка, от которой отскакивал раз десять, если не больше.
…Дверь открылась. Все оказалось проще, чем я ожидал. Никто меня не спросил, кто я такой, живу ли я в Петербурге или приехал из провинции и по какому делу пришел. Потом, когда я рассказывал моим сверстникам о посещении Блока, восхищаясь той простотой, с которой он меня встретил, кто-то из них пытался острить, что нет ничего удивительного в том, что автор «Незнакомки» так легко и просто принял незнакомца. Когда Блоку сказали, что пришел студент, он вышел в переднюю и повел меня в глубь квартиры. Если бы это происходило сейчас, в наши семидесятые годы, то я бы не удивился, но тогда обстановка, в которой жил Блок, меня поразила. В ней ничего не было типичного для того времени, для среднебуржуазного быта, даже обязательных, как погоны или кушак для солдата, спальни, столовой и гостиной. Александр Блок выбросил этих «трех китов» в свои большие светлые окна. Все три комнаты напоминали усеченную анфиладу. В каждой из них были широкие диваны, полки с книгами, цветами, небольшие книжные шкафы. Полное отсутствие громоздкой мебели, несколько картин, из которых я запомнил Кустодиева и Судейкина, и две или три фарфоровые вазы. Модных тогда кресел и диванов стиля «модерн» не было, стулья простые, полумягкие. Быт отсутствовал или так глубоко запрятался, что его никак нельзя было обнаружить.
Мы прошли через две комнаты в третью. Все двери были раскрыты настежь. В последней комнате Блок остановился у одного из столиков, на котором не было ничего, кроме нескольких книжек, по-видимому, только что полученных. У меня было такое впечатление, как будто я вошел не в незнакомую квартиру, а в обжитую, где я часто бывал. И Александр Блок был простым, отнюдь не натянутым. Обычно большинство известных людей бессознательно играют роль, которую полагается играть знаменитостям. Блок не задал мне ни одного трафаретного вопроса, он просто начал говорить со мною, как с человеком, с которым часто встречался, и вышло как-то естественно, что я без всякого прямого вопроса начал ему рассказывать, что учился в Тифлисском корпусе, но не захотел поступать в юнкерское и приехал в Петербургский университет только потому, что в Петербурге у меня много родственников, в Москве — никого. Блок слушал с таким вниманием и интересом, что я рассказал почти всю свою биографию и, конечно, не скрыл, что начал писать стихи с девятьсот четвертого года, и что в девятьсот шестом году дал тетрадь моих ученических стихов преподавателю русского языка Владимиру Ивановичу Базилевичу, и как меня удивило то, что, указав на наименее слабые стихи, — он ни слова не сказал про политические, вроде «Добьемся кровавой ценою свободы, столь жданной для всех». Блок улыбнулся, вероятно вспомнив свои стихи девятьсот пятого года, и задал мне единственный вопрос: «Какого поэта вы больше всего любите?» Я молчал, так как сказать «вас» было бы как-то неудобно. «А стихи молодого Алексея Толстого вам нравятся?» Молодого Алексея Толстого я не читал, поэтому я промолчал. Блок, вероятно, это понял и взял со стола маленькую книжечку стихов, прочел:
Разве это не хорошо? Или вот:
Мне эти стихи очень понравились, но сказать «нравятся» не повернулся язык. Потом я понял, что это было глупо с моей стороны, но, наверное, объяснимо: я так был счастлив, что разговор с Блоком шел гладко и естественно, что боялся какой-нибудь неудачной фразой все испортить. Ответил я так: «Стихи хорошие, но не такие, которые любишь до самозабвения». Александр Блок улыбнулся опять, вероятно поняв, чьи стихи я люблю до самозабвения. Беседа закончилась тем, что я попросил его прочесть мои стихи и рассказик, напечатанные в одном сборнике. Блок взял мой адрес и сказал, что свое мнение он мне напишет.
С этого дня я только и думал о том, что мне напишет Блок. Наконец пришел ответ в лиловом конверте с черной подкладкой.
Письмо было очень суровое, но доброжелательное. Он дал мне рецепт лекарства, которое должно было вылечить меня от слепого подражания декадентам.
В шестидесятые годы я прочел запись в дневнике Блока: «…ноября 1911 года. Приходил студент Ковалев с честными, но пустыми глазами». И я подумал, как опасно приходить к знаменитостям. А вдруг бы он написал «с выразительными, но лживыми глазами»? Это было бы куда неприятнее. Зато в письме ко мне, в котором он подвергал строгой критике мои стихи, он писал: «Все, что Вы рассказывали мне о себе, было гораздо живее и интереснее того, что Вы пишете».
Александр Блок был замкнут не для всех, но для многих. Числясь в литературном кругу Петербурга, он в то же время как бы отсутствовал в нем, так как не любил бывать в литературных салонах и ни разу не был в кафе «Бродячая собака», хотя там очень часто бывала его жена.
У Блока было врожденное отвращение ко всякой ходульности, напыщенности, шаблону, пошлости и мещанству. Даже легкий налет пошлости раздражал его и вызывал неприязнь к тем, кто был в этом повинен.
Особенно он ненавидел «окололитературных прилипал», которые проникали во все щели помещения, в котором хотя бы чуть-чуть «пахло литературой». От них некуда было деться, и оставалось только одно — терпеть их присутствие, так как все же их услугами иногда администраторы театров и литературных кафе пользовались. Все они были назойливы и трусливы, и стоило им резко ответить, как они стушевывались. Корректный и вежливый Блок не мог произнести резкого слова и поэтому просто избегал те места, где мог их встретить.
Я представляю себе, как его отпугивала одна мысль, что какая-нибудь весьма почтенная дама, вздыхая и охая, начнет просить его, чтоб он ей рассказал, как он себя чувствует, когда создает стихи или же отвечает на вопрос: «Вы часто думаете о своей Прекрасной Даме?», или скажет: «Но кто же была эта „Незнакомка“, которую вы так дивно описали?» Я убежден, что именно эти причины отпугивали Александра Блока от слишком частого соприкосновения с литературным кругом Петербурга.
…Второй раз судьба столкнула меня с Блоком через четыре года после встречи на Большой Монетной именно в одном из салонов, которые он так не любил.
Это было в 1915 году. Жене Федора Сологуба Анастасии Николаевне Чеботаревской удалось каким-то образом «заманить» Блока в свой салон.
Я был на этом вечере с моим другом пианистом Николаем Бальмонтом (сыном поэта). Александр Блок пришел позже, как всегда корректный и собранный, очень мрачный. Мрачность эта не была ни напускной, театральной, ни тем более вульгарной мрачностью опустившегося человека. Это была мрачность, одухотворенная глубоким страданием.
В ту пору публичных собраний было больше обычного, ибо война породила множество благотворительных вечеров в пользу раненых, сбора средств для фронта и т. п. Блок нередко выступал на таких вечерах. Но выступать в салоне… Однако вежливость не позволила Блоку отказаться, когда хозяйка вскоре попросила его прочесть «что-нибудь новое».
И вот он своим характерно глуховатым голосом, без тени скандирования, модность которого он игнорировал, начал вместо «нового» читать самое подходящее к его настроению стихотворение из цикла «Пляски смерти» (1912 год). В сущности, это была публичная исповедь, ибо всем было ясно, кто был героем стихотворения Блока. Когда он дошел до строк, как, утомившись хождением по городу,