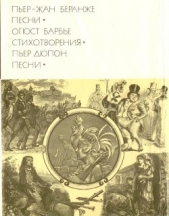Кружатся тени, кружатся тени.
Они — как бабочки в тишине.
Чернеют тени ночных строений,
и только тени — в ночном окне.
Кружатся тени за занавеской,
то врозь, то снова — совсем одно
плечо мужское и профиль женский —
как два актера в немом кино.
На фоне спящего, городского,
всему обычному вопреки,
так четок профиль лица мужского,
так плавен контур ее руки…
…С утра обычно в дела и будни
уйдут, похожи на всех других,
а тут как будто
муссон попутный
струится в их
парусах тугих.
Две тени кружатся, крылья сливши
к неведомым берегам гребя…
Который век, никому не слышны,
играют тени самих себя.
И в белом свете, в окно идущем
и опечатавшем их жилье,
они — как будто живые души,
которым нужно сказать свое.
То руки тонкие воздевают,
то вдруг взлетают на свет утра,
то неподвижные
замирают,
как два молчальника
у костра.
Дом предназначен на слом. Извините,
если господствуют пыль в нем и мрак.
Вы в колокольчик уже не звоните.
Двери распахнуты. Можно и так.
Все здесь в прошедшем, в минувшем и бывшем.
Ночь неспроста тишину созвала.
Серые мыши, печальные мыши
все до единой ушли со двора.
Где-то теперь собралось их кочевье?..
Дом предназначен на слом. Но сквозь тьму,
полно таинственного значенья,
что-то еще шелестит по нему.
Мел осыпается, ставенка стонет.
Двери надеются на визит.
И удивленно качается столик.
И фотокарточка чья-то висит.
И, припорошенный душною пылью,
помня еще о величье своем,
дом шевелит пожелтевшие крылья
старых газет, поселившихся в нем.
Дом предназначен на слом. Значит, кроме
не улыбнется ему ничего.
Что ж мы с тобой позабыли в том доме?
Или не все унесли из него?
Может быть, это ошибка? А если
это ошибка? А если — она?..
Ну-ка гурьбой соберемся в подъезде,
где, замирая, звенит тишина!
Ну-ка, взбежим по ступенькам знакомым!
Ну-ка для успокоенья души
крикнем, как прежде: «Вы дома?.. Вы дома?!..»
Двери распахнуты. И ни души.
Я видел удивительную, красную, огромную луну,
подобную предпраздничному первому помятому блину,
а может быть, подобную ночному комару,
что в свой черед
легко взлетел в простор с лесных болот.
Она над Ленинградом очень медленно плыла.
Так корабли плывут без капитанов медленно…
Но что-то бледное мне виделось сквозь медное
покрытие ее высокого чела.
Под ней покоилось в ночи пространство невское,
и слышалась лишь перекличка площадей пустых…
И что-то женское мне чудилось сквозь резкое
слияние ее бровей густых.
Как будто гаснущий фонарь, она качалась в бездне
синей,
туда-сюда над Петропавловкой скользя…
Но в том ее огне казались мне мои друзья
еще надежней и еще красивей.
Я вслушиваюсь: это их каблуки отчетливо стучат…
и словно невская волна, на миг взметнулось эхо,
когда друзьям я прокричал, что на прощание кричат.
Как будто сам себе я прокричал всё это.
«Осень ранняя. Падают листья…»
Осень ранняя. Падают листья.
Осторожно ступайте в траву.
Каждый лист — это мордочка лисья…
Вот земля, на которой живу.
Лисы ссорятся, лисы тоскуют,
лисы празднуют, плачут, поют,
а когда они трубки раскурят,
значит — дождички скоро польют.
По стволам пробегает горенье,
и стволы пропадают во рву.
Каждый ствол — это тело оленье…
Вот земля, на которой живу.
Красный дуб с голубыми рогами
ждет соперника из тишины…
Осторожней: топор под ногами!
А дороги назад сожжены!
…Но в лесу, у соснового входа,
кто-то верит в него наяву…
Ничего не попишешь: природа!
Вот земля, на которой живу.
Закрывают старую пивную.
Новые родятся воробьи.
Скоро-скоро переименуют
улицу
моей любви.
Имечко ей звонкое подыщут,
ласково, должно быть, нарекут,
на табличку светлую подышат,
тряпочкой суконною протрут.
Но останется
в подъездах
тихий заговор моих стихов,
как остались девушки в невестах
после долгих войн, без женихов.
А строитель ничего не знает,
то есть знает, но не признает.
Он топор свой буднично вонзает,
новый вид предметам придает.
Но по-прежнему
и неспроста ведь
мы слетаемся как воробьи —
стоит только снегу стаять —
прямо в улицу своей любви,
где асфальт придуман просто,
голубеет, как январский наст,
где воспоминанья, словно просо,
соблазняют непутевых нас.