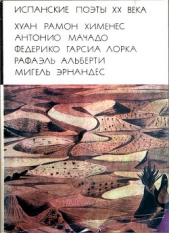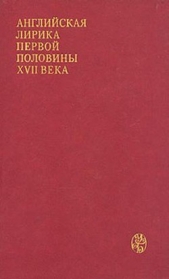I
Раненые распростерлись на полях, где мы воевали.
И там, где груда распластанных тел к долине прилипла,
торчат пшеничные струнки, ручьями бегущие в дали,
поющие хрипло.
Кровь дождит непременно снизу вверх, к небосводам.
И раны гудят, как раковины океанские, если только
в них уцелела жажда взлета и, сытая йодом,
волн голубых настойка.
У крови запах морской, вкус моря и погреба винного.
Погреб морской и винный взрывается именно здесь,
где раненый кровью захлебывается и в стебель растенья длинного
от смерти уходит весь.
Я ранен, и мне не хватит этой короткой жизни,
чтоб выполнить все заказы и выплатить все долги
на кровь, которой готов истечь, изойти на тризне.
Нераненый, помоги.
Моя судьба — это рана счастливой юности ранней.
Жалею тех, кто ни разу еще не лежал пластом,
навылет раненный жизнью, великолепно раненный,
блаженствующий притом.
И госпиталь, где на белом наши тела нагие,
это — сад ослепительный, с красными гроздьями роз,
который перед кровавыми воротами хирургии
сквозь мякоть мою возрос.
II
Я весь в крови, свобода. Я — огненная масса.
Тебе одной, свобода, мои глаза и руки.
Я — дерево из мяса. Как дерево из мяса,
я к вам иду, хирурги.
Из-за тебя, свобода, под кожей синеватой
ношу сердец я больше, чем на ладони линий.
Слепящей красной пеной вхожу я в мякоть ваты,
как в здание из лилий.
Из-за тебя, свобода, я отрываюсь долго
от тех, кто изваянья свои не удержали.
Отталкиваюсь пулей, ногами, домом, долгом
от этой страшной жатвы.
Ты молодец, свобода. Люблю твой блеск в работе —
вернуть пустым глазницам всю достоверность взгляда,
вернуть безруким пальцы, ступни — безногой плоти,
а землям — запах грядок.
И кровеносным соком ты плоть лозы наполнишь,
воскресшую из тела, возросшую из раны.
Я — дерево из мяса. Приди ко мне на помощь.
Я выжил, как ни странно.
Голубиная стая писем
невозможный полет начинает
с дрожащих столов, — на них
опираются воспоминанье,
значенье и тяжесть разлуки,
и сердце, и ночь, и молчанье.
Я слышу биение писем —
плывут они, выплыть силясь.
Где б ни был, всюду встречаю
мужчин и женщин унылых,
что разлукой ранены тяжко
и от времени истомились.
Сообщения, письма, письма,
открытки, записки, мечтанья,
частички нежности горькой —
их мечут к небу в страданье,
посылают от крови к крови
и от желанья к желанью.
Пусть в землю опустят тело,
которым люблю и дышу,
но ты напиши мне в землю,
и я тебе напишу.
Немеют где-то в углу
конверты старые, письма,
и возраст свой цвет на почерк
кладет с немой укоризной.
Там гибнут старые письма,
хранящие дрожь тоски,
чернила там умирают,
там в обмороке листки,
бумага в дырах, как кладбище,
короткое и бестравное,
страстей, что были давно,
любовей, что были недавно.
Пусть в землю опустят тело,
которым люблю и дышу,
но ты напиши мне в землю,
и я тебе напишу.
Когда я пишу тебе,
в волненье чернила впадают, —
холодные, черные вдруг
краснеют, дрожат, изнывают,
и ясный цвет человечий
со дна чернильниц всплывает.
Когда я пишу тебе,
то кости мои тебе пишут:
несмываемы те чернила,
под которыми чувства дышат.
В огне закаленной голубкой
летит письмо над пустыней
со сложенными крылами
и с адресом посередине.
Не воздух, гнездо или небо
нужны этой птице, а тело,
а руки твои, глаза,
дыхания все пределы.
Ты будешь ждать обнаженной
среди твоих чувств, как в колодце,
чтоб чувствовать каждою клеткой,
как к сердцу она прижмется.
Пусть в землю опустят тело,
которым люблю и дышу,
но ты напиши мне в землю,
и я тебе напишу.
Вчера осталось письмо
одиноким и без хозяина,
пролетев над глазами того,
кто ждал его жарко и тайно.
Говоря и с мертвыми, письма
в живых остаются тоже:
они человечны, хоть их
прочесть адресат не может.
Пусть где-то клыки отрастают,
мне с каждым днем все дороже
письма твоего легкий голос,
как зов необъятный, тревожный.
Во сне его получу я,
когда наяву невозможно.
И станут раны мои
чернильницами, тоскуя,
губами, что нежно дрожат
от памяти о поцелуях;
неслыханным голосом раны
пусть скажут: тебя люблю я.