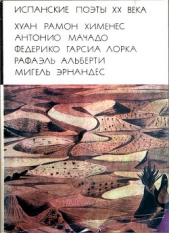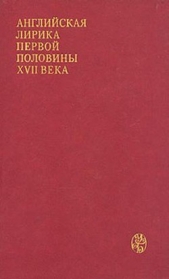Вода находит в море свой рай зеленоватый,
а пот находит в море свой шум и свой оттенок.
Он — светлая олива с листвой солоноватой
и пахнущей, как тело.
Он издали приходит — прозрачный, древний, острый,
и молча предлагает свой ствол с тяжелой кроной.
Он скромен и вынослив. И материк, и остров
он озарил короной.
Он — первый сын движенья и брат слезе и свету,
он бродит вдоль столетий, за луч держась руками.
И стелется по свету, и вяжет осень к лету
ростками, лепестками.
Когда рассвет в тумане, гуськом идут крестьяне
и рукояткой плуга свой сон отодвигают,
и золотые ткани из пота и дыханья
к лопаткам прилегают.
И шелестит прозрачный, лимонный дождь подмышек,
и золотые платья идут крестьянским лицам.
Светлейшей, тихой ткани сияющий излишек
на пахоту ложится.
И делаются земли вкуснее и богаче,
когда со лба горячий свой сок роняю в поле.
Пускай мелькает пряжа, густая пряжа плача,
колючего от соли.
Кто не потел ни разу, кто о ладонях сытых
не вспоминал в ленивом дыму пустого спора,
тот разве понимает блаженство пор открытых
и разъяренность торо {228}.
Безделье дурно пахнет, над ним крыло возмездья.
Бессмертье — в жестких пятках. Бессмертье — свойство тела,
которое и руки и ноги, как созвездья,
передвигает смело.
Пускай кристаллом соли пометит нас работа.
Пускай прозрачным станет овал лица от плача.
Пусть поровну разрежут кривые струи пота
твой теплый хлеб, удача.
Европа вспыхнула, пылает пожарищем:
из края в край, от России и до Испании,
в порыве высоком и всесжигающем
пожар полощется полотнищем знамени.
Его костры табунами проносятся,
он все сметает ураганом внезапным,
он похож на победного знаменосца,
водрузившего стяг багровый над Западом.
Пожар пылает, как очистительный факел,
опаляя во мгле небоскребы серые,
свергая статуи, вгрызаясь в темь:
прогнившие здания сгорают во мраке,
словно это косынки кисейные.
И ночь увядает, и зреет день!
Пожар, порождающий грозные штормы,
управляет сердцами людей и моторами.
Это Ленина свет над миром кочует,
алеет над ледяными просторами
и горные одолевает хребты.
Он бережно раны людские врачует —
раны печали и нищеты.
Словно солнце затмило химеру луны!
Словно сердце, морского коралла багровей,
титаническим рифом поднялось из волны
и на землю исторглось потоками крови.
Это запах, радующий обоняние,
это песня, чье эхо по штрекам развеяно.
Над кострами рассветными распевает Испания,
украшенная портретами Ленина.
Здесь люди сгорают, как метеоры…
Но Испания борется, не щадя усилий,
сердцем солдата озарена.
Через оскорбленные Пиренейские горы,
как руки, далеким кострам
России свои костры протянула она!
Я чрево твое засеял зерном и любовью, подруга.
Всей кровью тебе откликаюсь, тобой мои вены полны,
над пашнею жду я всходов, жду ожиданием плуга,
дошедшего до глубины.
Хмельной глоток моей жизни, жена моей плоти и кожи,
смуглянка дозорных башен, всевидящих глаз и огня,
твои безумные груди на зачавших ланей похожи —
они заждались меня.
Мне кажется иногда, что ты — бокал тонкостенный:
чтобы тебя не разбить, я боюсь шевельнуть рукой.
Своею кожей солдата я хочу облечь твои вены,
словно вишенку кожурой.
Зеркало моей плоти, крыльев моих опора,
я смерть потому и отвергнул, что жизнь для тебя берегу.
Я так люблю тебя, милая, здесь, среди пуль и пороха,
где гибель на каждом шагу.
Здесь, над гробами пустыми, ждущими нас под обстрелом,
над растерзанными, для которых и могила-то не нужна,
я люблю тебя и хотел бы поцеловать всем телом,
даже в прах рассыпаясь, жена.
Когда я тебя вспоминаю на страшном поле сраженья,
твой образ не исчезает, не стирается, но — растет!
Я вижу: ты приближаешься, и вся ты в эти мгновенья —
огромный голодный рот.
Почувствуй меня в траншее, пиши мне на поле брани.
Имя твое воскрешая, я пишу ружейным огнем,
чтоб защитить твое чрево, тоскующее в ожиданье,
и сына — во чреве твоем.
Наш сын родится, и будет в кулачок рука его сжата,
сына нашего спеленает гитар победный напев.
И жизнь моя постучится в твой дом рукою солдата,
забывшего боль и гнев.
Сейчас мы должны убивать, чтобы жизнь восторжествовала,
но под сенью твоих волос я найду однажды покой,
на простынях засыпая, похрустывающих от крахмала,
сшитых твоей рукой.
В тяжком движении к родам шаги твои непреклонны,
и уста твои непокорные непреклонны на этом пути.
Сюда, в мое одиночество, где взрывы, атаки и стоны,
свой поцелуй — я знаю — ты хотела бы донести.
Для нашего сына добуду я мир на поле сраженья.
И пусть по закону жизни однажды накатит час,
когда в неизбежной пучине потерпят кораблекрушенье
два сердца — мужчина и женщина, обессилевшие от ласк.