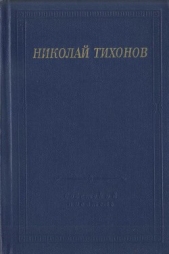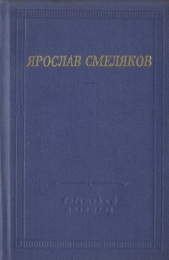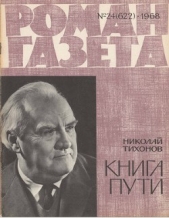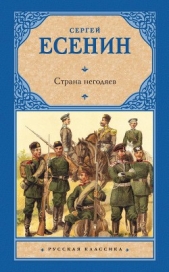Я взял к вершинам не на выбор
Кратчайший путь — хребет седой,
Я перечел за глыбой глыбу
И бросил, вычитав одно:
Внебытовой покой камней
Не может снизиться, не вправе, —
А я — равнинный мастер, мне
Страной заоблачной не править.
Вот едем низиной, всё глубже, всё туже
Степной ударяет уют,
Я вижу, как люди садятся за ужин,
В сараях коровы жуют.
И свечки наростами жира,
Шипя, обрастают пристойно,
А я по негнущимся лестницам мира
Скитаюсь котом беспокойным,
И с мышью вчерашней, и с завтрашней мышью
Я в ссоре, и ссора не знает затишья.
Смеется осень между зарев:
«Послушай, путник, речь мою,
Не только я одна базарю,
Леса на ветер продаю,
Над промотавшимся туманом
Имен, обычаев, знамен,
Над прогоревшим балаганом
Земли встает аукцион.
Довольно звезд лелеять ворох
На поэтическом шесте,
Мы их сравним с желтком, который,
Поджарясь, лопнул на плите.
Мы прошлому простить не можем,
Что жили с ним, его куски
Вложили в мозг, впитали в кожу
И вот — не подаем руки.
Нас утомил размах впустую.
Со страстью к юному вину,
Как бородавку кочевую,
Хотим мы выжечь старину».
«Всё так, цветное время года,
Разоблачай, рычи, дари,
Но исторической погоды
Не я веду календари».
Темнеет степь — всё на свете,
Когда сентябрь темнеет вдруг,
Я помню девочку Осетии
Такой, как встретил поутру.
Как на скалистом повороте
Она шумела по траве.
И я увез ее лохмотья
В своей нескладной голове.
Еще взглянуть — стих приторочен,
Трясет губой, стучит ребром,
Еще усилье — и полночный
Владикавказ подарит сном.
Так пусть под пепельную прыть
Садов, шумящих напряженно,
Придет со мной поговорить
Во сне хевсурский медвежонок.
И скажет мне с улыбкой злейшей:
«Вставай, кунак, гляди в окно:
Еще одной дорогой меньше
И больше осенью одной».
Сентябрь — ноябрь 1924
Зажми слова и шпоры дай им,
Когда, перегибая нрав,
Ты их найдешь, упорств хозяин,
В чужом упорстве прочитав,
В несытой и коричневой
Лавине на горах,
В гремучем пограничнике,
Как молодой Аракс,
Где в звездном косоглазии,
Давяся тишиной,
Предплечья старой Азии
Качались надо мной.
Но как мне в памяти сберечь
За речью двуязычной
Ночь, громадную, как печь,
Зов и запах пограничный:
Он ноздри щекотал коням,
Дразнил разбегом и разбоем,
Грозой белесой оттеня
Степей стодолье голубое.
Дороги тут и водятся
Насмешливей ресниц,
У тех дорог не сходятся ль
Хранители границ?
Они ступают бережно,
Чтобы сберечь подошвы,
Легко идя по бережку,
Как шорох самый дошлый.
Где пахнет гостем крепким
Иль контрабандным шагом,
Идут по следу цепью
Скалой и камышами.
Ночь зыбится и стелется
Для всех живых одна —
О шашку храбрость греется,
Как о волну — волна.
Такою ночью сердце вплавь,
А с юга, нам закрытого, —
Идут и против всех застав
Храбрятся вдруг копыта.
Но лишь подымет берег вой,
Сквозь сломанный ардуч [71]
Махает барс, как шелковый,
Лосняся на ходу.
И вслед его, как серый ком,
Под ветровой удар
Несется круглым кубарем
Пройдоха джанавар [72].
Попробуй тропы узкие
Законом завязать —
Далеко видят курдские
Точеные глаза.
И что им часовые?
Как смена чувяков, —
Но красные значки их
Одни страшат кочевников,
Значки стоят то хмуро,
То пьяно, то нарядно
На вышках Зангезура,
На стенах Ордубада.
И, отступив, номады,
Скача в жару и впроголодь,
Гадают в водопадах
На мясе и на золоте.
Но в пене, в жилах скрученных
И в золоченом поясе
Блеск красный, как ни мучайся,
Он всюду — как ни ройся!
Как вымысел ущельем рта
Восходит в песен пламя,
Так Арарата высота.
Всходила запросто над нами.
Равняясь честно на восход,
С ума свергавшей головой
Сиял, как колокол и лед,
Земли бессменный часовой.
Прости, старик, мы пили чай,
Костром утра согревши плечи,
Садов зеленая свеча —
Лукавый тополь, нас уча,
Шумел на смешанном наречье.
Ступали буйволы с запинкой,
Кувшин наполнился рекой,
Страна камней, как семьянинка,
Оделась в утренний покой.
Кусты здоровались обычно —
Меж них гуляет пограничник.