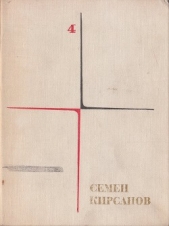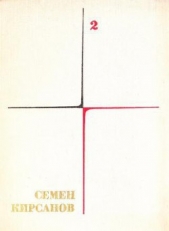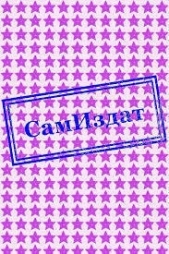Собрание сочинений. Том 3. Гражданская лирика и поэмы
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Собрание сочинений. Том 3. Гражданская лирика и поэмы, Кирсанов Семен Исаакович-- . Жанр: Поэзия. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.

Название: Собрание сочинений. Том 3. Гражданская лирика и поэмы
Автор: Кирсанов Семен Исаакович
Дата добавления: 15 январь 2020
Количество просмотров: 467
Собрание сочинений. Том 3. Гражданская лирика и поэмы читать книгу онлайн
Собрание сочинений. Том 3. Гражданская лирика и поэмы - читать бесплатно онлайн , автор Кирсанов Семен Исаакович
В третий том Собрания сочинений Семена Кирсанова вошли его гражданские лирические стихи и поэмы, написанные в 1923–1970 годах.
Том состоит из стихотворных циклов и поэм, которые следуют в хронологическом порядке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перейти на страницу:
Окруженные
1
Когда сомкнулись клещи наши
у Волги обручем двойным,
фашистский лагерь, мертв и страшен;
остался островом войны.
На этой льдине окаянной
столпились полчища врагов,
посередине океана
кубанских и донских снегов.
Еще фельдфебели на льдине
за выправкой людей следят,
еще согласно дисциплине
спешит к орудию солдат.
Но океан идет все шире,
а остров дальше от земли,
и, самые седые в мире,
их волны смерти замели.
Безвыходно и безотъездно
подмоги ждет полускелет,
рукою зябнущей железный
еще сжимая пистолет.
Еще солдат свершает точно
свой поворот на каблуках,
еще стучит морзянкой срочной
тяжелый «юнкерс» в облаках.
Но позывные глуше, реже,
замерзшими заполнен ров,
и каптенармусы не режут
хлебов у розовых костров.
И знает сумрачная птица,
кружась над мертвыми вдали,
что остров должен опуститься
на дно завьюженной земли.
2
Стоят кресты после сражения
простыми знаками сложения.
Потом кресты берут на плечи,
потом крестами топят печи,
согрев себя, солдаты сами
потом становятся крестами.
А за степями необъятными
выходят вдовы на мосты,
и с распростертыми объятьями
готовы встретить их кресты.
Два дуба
Два дерева растут вблизи Березины,
два дуба двести лет корнями сплетены.
Под их листвой пылит дорога полевая,
скрипит крестьянский воз, их сеном задевая.
Сопутствуя волам, под шумною листвой
пастух выводит здесь мотив наивный свой.
Вот промелькнул возок времен Екатерины, —
знать, девушку в Москву вывозят на смотрины.
Вот с Альпами в глазах проходят в листопад
усатые полки суворовских солдат.
Дубовый ломкий лист засушен и заржавлен,
над ним с пером в руке задумался Державин.
О, зарево Москвы в двенадцатом году!
Два гренадера здесь шатаются в бреду.
Закутались они в дырявые знамена,
где мерзнут на шелку орлы Наполеона.
Как строгие столбы карающей судьбы,
их провожают вдаль безлистые дубы.
Тут коробейник шел, и проносил офеня
письмовник, и букварь, и календарь для чтенья.
И у седых стволов по белизне зимы
подпольщик проезжал, бежавший из тюрьмы.
Тут сходку майскую увидели впервые
и флаги Октября деревья вековые.
Южнее — пролегло широкое шоссе.
Все реже люди шли к их вековой красе.
Седые столяры о тех дубах забыли,
стальные топоры двух братьев не срубили,
к забытому пути из ближнего села
лишь узкая тропа болотами вела.
Тут раннею весной, когда луга клубились,
крестьянский паренек и девушка любились.
И первые ростки проснувшихся дубов
благословляли их апрельскую любовь.
Но лето летовать не довелось любимым, —
за лесом встал пожар, и потянуло дымом,
и орудийный гром потряс дубовый ствол,
и танк с кривым крестом под ветками прошел.
С беспомощных ветвей свисала молча зелень,
у дуба правого любимый был расстрелян,
у дуба левого замучена она.
На вековом стволе кора обожжена.
Сквозь тело в плоть дубов слепые впились пули
и сердцевины их до сока резанули.
Слова, слетевшие с девичьих скорбных губ,
листвою повторил зеленогорбый дуб.
И снова влажный луг порос болотной травкой,
проселок двух дубов стал партизанской явкой,
и раздавался здесь ночами тайный свист,
и пропуском друзьям служил дубовый лист,
и к шепоту друзей прислушивались ветки,
и были на коре условные заметки,
и партизанский нож однажды поутру
любимых имена нарезал на кору…
В осенние дожди и в зимние морозы
за лесом под откос валились паровозы,
и с каской набекрень валялся враг в снегу,
дубовый лист на грудь приколот был врагу.
Не тот дубовый лист, что в Тевтобургской чаще
на Германа слетел, на шлем его блестящий,
не орденский листок Железного креста,
а месть врагу — ножом — сквозь золото листа!
Однажды на заре вновь запылил проселок,
и в ветви залетел и срезал их осколок.
Запело, понеслось над рвущейся листвой,
и рядом третий дуб поднялся — дымовой.
И на седую пыль проселочной дороги
ступил отряд бойцов, запыленных и строгих;
медалями светясь, с ресницами в пыли,
с сияньем на лице они на запад шли.
И два седых ствола с листвой старинной меди
вдруг выросли в пыли воротами к победе,
и ветви поднялись, как триумфальный свод
с незримой надписью: «Сорок четвертый год».
И вздыбила листва коней медно-зеленых,
героев имена горят на двух колоннах,
и девушка с венком и юноша с венком
указывают путь сверкающим клинком —
на запад! И прошли отряды боевые,
и осенили их деревья вековые,
простые, милые, заветные дубы.
Под ними — только дождь — покажутся грибы.
Вновь путник обретет спокойствие ночлега,
и снова проскрипит колхозная телега,
на ветках отдохнет весенний перелет,
любимую свою любимый обоймет
рукой застенчивой с широколистой веткой
под созданной для них природного беседкой,
поэт подымет лист в ноябрьский листопад,
и дрожь звенящих рифм пронзит его до пят,
и песня долетит, и отголоски смеха,
и шепоток листвы смешает с песней эхо,
и голоса людей, и ржание коней
на той родной земле, где не взорвать корней,
где не свалить стволов великого народа,
где дышит, как листва, могучая свобода.
Перейти на страницу: