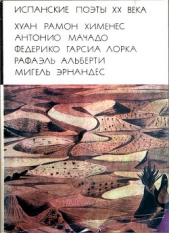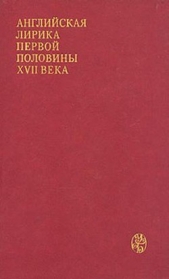Видеть снова, Европа, тебя! Видеть снова тебя! Видеть снова!
Наконец я увидел тебя. Ты меня одарила
долгим взглядом своим, но не мертвенным взглядом слепого —
безмятежным весельем встающего утром светила.
Я спустился к тебе как-то осенью с кручи небесной.
Расплескался ноябрь посреди голубого тумана.
Стыла Бельгия — в белое платье одетой невестой —
тихий ангел печали звонил в этот колокол странный.
Горн валялся в пыли, и горнист рядом мертвый валялся.
Погружаясь в коричневый сон, я от боли заплакал.
Я в Германии был, мрак над ней в небесах колыхался,
но уже распускался в руках ее утренний факел.
В снегопад я спустился на тело страдалицы Польши.
Осторожно на щит приняла меня Вислы сирена {212}.
Меч усталый ее не был кровью окрашенным больше,
жив народ ее, вставший с душой обнаженной из плена.
Да, из всех в нашем мире однажды придуманных казней
величайшая казнь на безвинный народ этот пала.
Пасть врага с каждым днем все грозней, все больней, все ужасней
его тело живое стальными зубами терзала.
Но взгляните: он все-таки жив. Снова, кроткий и нежный,
родничок его сердца забившей струею играет,
обращается к жизни мечта его с новой надеждой,
ночь над ним умирает, и день перед ним рассветает.
И опять я летел. Средь тумана вдали закачалась
Прага, как городок в поднебесье — приветливый, дальний,
и в студеном течении спящая Влтава казалась
королевой под крыльями белой голубки хрустальной.
Я увидел людей на заводах, в работе упорных;
стеклодувов ее — меж тончайших прозрачнейших граней;
совершенство и стройность во всем; и на землях просторных —
виноградные грозди, в заре тяжелевшие ранней.
А потом я с тобой повстречался: латинянка, но и славянка,
шла пастушкою вдоль запевающих песню полей ты,
и во лбу твоем месяц звенящий горел, точно ранка,
и вливалось в уста тростниковой дыхание флейты.
И сказал я: привет передай мой румынским крестьянам,
что спаслись после всех испытаний и тягот суровых.
Разбиваясь на брызги, нефть била под солнцем фонтаном,
пробуждался свободный народ, засыпавший в оковах.
О любовь, о величье, о слава! С какой теплотою
мне Румыния руку рукой своей крепкой пожала!
Ты — хозяйка судьбы, ты хозяйка над вольной землею,
ты засеешь ее, чтобы завтра скорее настало.
Я в Москву прилетел. Льдами город был наглухо скован.
Охраняла его звезд кремлевских высокая стая,
и Василий Блаженный по-прежнему был коронован,
в небе луковками куполов разноцветных блистая.
Вот сюда из развалин войны, после скорби горючей,
величавая мать навсегда возвратилась устало,
и из чрева ее появился младенец могучий —
бурной жизни начало и нового света начало.
Я покинул ее, когда ветер повеял весенний
и под снегом зеленые рожь выпускала побеги.
«Никогда еще в них, — говорили печальные тени, —
большей не было силы и большей младенческой неги».
И, летя в небесах, я сказал ей уже на прощанье:
«Сохрани яркость красной влюбленной гвоздики навеки!»
И платок бросил вниз я. На белой горящее ткани
плыло сердце мое через горы, и долы, и реки.
До свиданья. Планета землею в глава мне смотрела.
Солнце вышло из карцера туч на просторы вселенной.
Над Европой теплело, да, да — над Европой теплело…
И внезапно я встал на мосту над красавицей Сеной.
О виновная Франция, ты и Париж твой греховный!
Кто бы смог не простить вас, хоть раз увидав ваши лица?
Исстрадавшийся, раненый, слабый, несчастный, бескровный,
разреши мне, Париж, в твои волосы глубже зарыться.
Я очнулся и тихо сказал себе: «В путь! Я дождался,
о Европа, с тобой расставанья минуты щемящей».
С Нотр-Дам лился звон колокольный… И все приближался
ветра сдавленный крик, из Америки морем летящий.