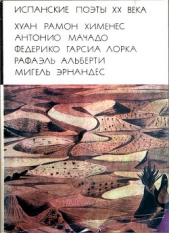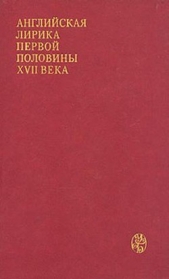СВОБОДНЫЕ НАРОДЫ! А ИСПАНИЯ?.. {209}
Мир наступил. Разбитая олива
в слезах над очагами зеленеет,
и как заря, как море в час прилива,
из сердца жизнь встает и пламенеет.
Растерзана, необжита, бедна,
но это — жизнь. Да, снова жизнь. Она.
Она по всей земле и в каждом доме —
там солнце побеждает мрак затменья, —
она сияет всем на свете… кроме
бойцов испанского Сопротивленья.
Их смерти желтый пес сбивает с ног,
им в сердце смерть вонзает свой клинок.
Смотрите: смерть в Испании как дома.
В пустыне маятник слепой немеет,
и улица пуста и незнакома,
и дверь свою открыть никто не смеет.
В печальном доме смерти, в царстве сна
и тень на волю выйти не вольна.
Мир наступил, и каждая дорога
дорогой возвращенья к дому стала.
Запело в поле семя-недотрога,
и солнце над развалинами встало.
Земле и небу — мир, полям — весна.
Испанцу — высылка, тюрьма, война.
Что делать! Мир по-прежнему краснеет,
но это — кровь, а стыд все беспробудней.
А дерево Испании коснеет,
лист за листом роняя в море будней.
И все ж его не валит ветер с ног,
и в ветре ствол его не одинок.
Глаза без сна и без повязки раны;
как заповедник — горы под снегами;
и, словно львы на страже, партизаны
хранят огонь Испании над нами.
Герои долга и святых трудов
и воины вершин и холодов!
Их жажда — свет, а ночь — их щит; надежда
для них — залог большой судьбы народа;
а сердце жаркое — вся их одежда,
и дерзкая мечта — вся их свобода!
Испания, при имени твоем
склоняются знамена над огнем!
О, тайные далекие знамена,
подъятые сыновними руками!
Как против беззаконного закона
они кричат немыми языками!
Бродячие знамена поутру
на партизанском плещутся ветру.
Там умирают; мы же здесь — чужие;
но там и здесь мы верность не растратим:
не мы в долгу, у нас в долгу другие
за цену долга, что мы жизни платим.
О, стыд! О, боль! Неправой кары гром!
За зло врага выплачивать добром!
Кто разрешил, чтоб огоньки мигали,
и дети не боялись поношенья,
и робкие цветы пренебрегали
колючей проволокой устрашенья?
Кто смертный приговор весне скрепил,
послал ее в застенок и казнил?
Мир наступил. И детям обещают
спокойный сон блуждающие звезды.
Глаза любви с восторгом различают
на башнях свет и ласточкины гнезда.
Но для детей испанских блеск комет —
предвестье голода, смертей и бед.
Кто сжал им горло ледяной рукою,
и чье проклятье им легло на плечи?
Какое зло им не дает покою
и шпагою утонченно калечит?
А мир, желанный мир их не прикрыл
защитою своих широких крыл.
Народы мира! Лепетом поэта
мой крик отчаянный не обернется!
Нет мира, нет, покуда вся планета
на крик родных сердец не отзовется!
В Испании — фашизм, тюрьма, война.
Свободные народы! Ждет она…
Сегодня снова дождь пройдет и канет
туманом в гавани моих потерь
и лет, еще не меченных утратой.
И снова в соснах буря прошумит,
прольется дождь, зайдется в отдаленье
торжественно-финальным воплем гром,
и молния в последний раз
хлестнет по башням огненною плетью.
Ты выглянешь тогда, седая старость, из детских одеял и милых глаз…
И снова я свою увижу мать
сквозь витражи цветные на балконе,
откуда город весь как на ладони
и голубое в белых бликах море,
где бриз играет пальцами прибоя
на клавишах зеленых балюстрад.
И ночью гулко стонут балюстрады…
А мы с Хосе Игнасьо и Пакильо
улиток ищем у надгробий старых
на кладбище. Или в аллеях парка,
заросших буйным золотистым дроком,
с мальчишками играем в бой быков…
Взлохмаченные гривы бурунов,
деревьев шумная скороговорка
и мерный задушевный диалог
песчаной отмели с накатом волн.
Я силюсь, к уху приложив ладонь,
проникнуть в то, что мне приносят волны
издалека. Мне чудится галоп
усталого коня на берегу неровном,
где море лижет трупы крепостей
и лестничные сбитые ступени…
И всадник мчит на диком скакуне,
иссиня-вороном, в соленой пене.
Куда? Куда? Каких подводных врат
достичь он хочет, до каких пределов
неисчерпаемой голубизны
доскачет в поисках искомой глубины,
где контур, форма, линия, оттенок,
мелодия свою являют суть?
Он к новым горизонтам ищет путь,
где города́ гармонию строений
возносят к незапятнанному небу
и копотью не отравляют рай.
А дождь все льет. И вот уж только край,
край моря, краешек едва мне виден.
И море кануло в туман. А он ревниво
уносит вслед за морем гул стволов,
таких невероятно-достижимых…
Ко мне не наклонятся их вершины
и не прошепчут, что они мертвы.
Все умерло, все умерло. И смыт
дождливый вечер ливнем глаз моих.
Кто видит в темноте?
Кто просит тени?
Кому мешают звезды по ночам,
и кто хотел бы, чтоб погасли звезды?
Но море умерло, как рано или поздно
все умирает, возвращаясь к нам.
И остается лишь — ты слышишь, слышишь —
лишь разговор, отрывистый, невнятный,
где все слова темны и непонятны,
и в сердце заползающая дрожь,
что все вернется вновь, а ты — умрешь.