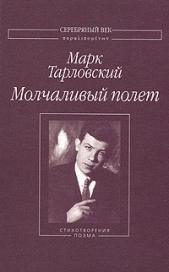Севастополь — запальный фитиль
На Таврической бомбе истории.
Это — известь, и порох, и пыль,
Это — совесть и боль Черномории;
Херсонес — это греческий крест,
На дороге Владимира постланный,
Это — твой триумфальный наезд,
Князь, в язычестве равноапостольный.
Балаклава ж — молочный рожок
В золотой колыбели отечества,
Переливший младенческий сок
В пересохшие рты человечества…
В Севастополе — бранный курган
И торжественность памяти Шмидтовой. —
— Для чего он сжимает наган? —
Ты рассердишь его — не выпытывай.
В Херсонесе, царьградский подол
О языческий жертвенник вымарав,
Византиец садится за стол,
Чтобы выпить за подвиг Владимиров;
В Балаклаве — и английский бот,
И фелука торгашеской Генуи,
И пещерного жителя плот
Облегли ее дно драгоценное…
Ираклия три гордых узла
На платке завязала Таврическом,
Чтобы память их нам донесла
Недоступными варварским вычисткам.
Треугольник убежищ морских,
Он не канул на дно, он не врос в траву
И поет о столетьях своих
Погруженному в сон полуострову.
Бродил я и твердил (не зная сам,
Что значит по-татарски) — «мен мундам!»
Но с этих слов, загадочно простых,
На землю веял прадедовский дых,
И дух кочевий, по моим следам,
Гудел гостеприимно: «мен мундам!»
Я кланялся плетущимся домой
Сапожникам с паломничьей чалмой,
И отращенным в Мекке бородам
Я признавался тоже: «мен мундам!»
Я наблюдал, как жесткую струну
Кидали шерстобиты по руну,
И войлочный мне откликался хлам
На хриплое от пыли «мен мундам!»
По замкнутым дворам туземных нор,
В святых пещерах молчаливых гор,
Снимая башмаки у входа в храм,
Шептал я, как молитву: «мен мундам!»
К Фонтану слез Гиреева дворца
Младой певец другого вел певца,
Он звал его по имени — Адам —
И, встретив их, я крикнул: «мен мундам!»
Когда же я спросил о смысле слов,
Мне давших ласку и привет и кров,
— Я здесь! — мне отвечали. — здесь я сам!
Вот всё, что означает «мен мундам»… —
Журчал ключом и лился через край
Воспетый Севером Бахчисарай.
В Бахчисарае это было, там,
Где я сказал впервые «мен мундам».
Где хан не правит и фонтан не бьет,
Где Пушкинская тень отраду пьет,
Где суждено уже не тем устам
Шептать благоговейно «мен мундам!»
Дули ветры всех румбов и линий:
Ветер западный, чайки смелей,
Волчий — с севера, с юга дельфиний
И верблюжий — с восточных степей;
Было шумно в обветренном стане —
Между морем и горной дугой,
В откроенной долине свиданий,
Вдохновенный царил непокой;
И рвались через редкие звенья
Ураганы в курганной гряде,
И летело мое вдохновенье
По соленой и желтой воде.
Пусть жара обернулась москитом
И рассыпала злые рои,
Пусть ложатся зверьем перебитым
Бездыханные ветры мои, —
Но взревут возмущенные недра,
Поколеблют зловещий покой
И начало Великого ветра
Возвестят оживленной строкой.
За надрывным Карадагом
Гриф распластан рыжеперый,
Смертью праведной и спорой
Угрожающий бродягам. —
А бродить не всякий может
По разъятому вулкану,
И, когда я в пропасть кану,
Рыжий гриф мой труп изгложет…
Это было: рвань сандалий,
Сгустки крови на ладонях,
Отклик стона в гулких доньях
Лавой ущемленных далей,
Дрожь изъеденных тропинок,
Скрежет зыблемых карнизов,
И вверху — крылатый вызов
На неравный поединок.
Эту битву всякий знает,
Все над пропастью мы виснем,
Некий гриф беспутным жизням
О судьбе напоминает. —
Сквозь года, сквозь тучи зрячий,
Смотрит хищник терпеливый
На приливы и отливы
Человеческой удачи.
Он с паденьем не торопит,
Он спокоен, потому что
Виноградный сок Алушты
Будет неизбежно допит,
Потому что мы летаем
Только раз и только книзу
И беспамятному бризу
Клок одежды завещаем.