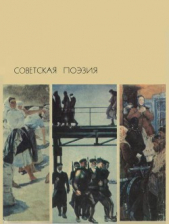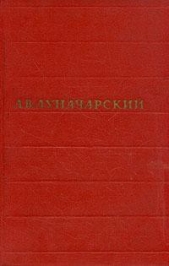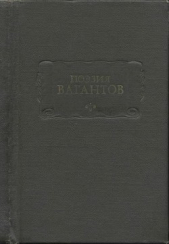Сквозь хлипкие стены каморки он слышит все шумы и шарки,
Все споры, и смехи, и свары, все звуки парки и варки,
Как мельтешатся лакеи, как громко судачат кухарки,
Как шепчет шашлык на шампурах, лепечут жаркие шкварки,
Как грохают об пол поленья с плеча — с одного, с другого,
Как дворник кухонным бабам пускает крепкое слово.
Хозяйка, как куль крупчатки, дебела, бела и здорова,
Кричит на кухаря басом: «Когда уже будет готово?»
И вот секачи зазвенели, кромсая лук и морковку,
И вот черпаки загремели, взятые наизготовку,
Хозяйка в сердцах хватает скалку или мутовку
И ляпает крепко и звонко по заду служанку-плутовку.
С рассвета, когда розоватым светом мерцает оконница,
До ночи, когда успокоиться уму не дает бессонница,
Весь мир этот жрет и гогочет, хлопочет, ссорится, гонится,
В дыму над плитой колдует, над жирной мискою клонится.
Коптят, чадят, задыхаются, распаренные и ражие,
Отмеривают и взвешивают, считают копейку каждую,
Чтоб княжье чрево насытить едой поистине княжьею —
Винами, соками, зеленью, мяса и сала поклажею.
Отборное жито Кахетии, яблоки Карталинии,
Травы душистой Пшавии, гроздья — желтые, синие,
Собранные осторожно, в сизо-сребристом инее,
Сочные смоквы Грузии, плод роскошных долин ее.
Задавленный чадом и смрадом, станами кривобокими,
Подглядывая сквозь щели досок, покрытых потеками,
Мечтаю ночами дождливыми, безмолвными и безокими
О сладких смоквах ее, что полны багряными соками.
Здесь, у ее подножья, искристо-светлый танец,
Высыпанный на травы блеск золотых кружалец.
Боже, свет оторви, чтоб очи мои разжались,
Чтоб цвет красоты и славы я разглядел, скиталец.
Что я умею? Краску накладывать на картонку,
Чтоб лица, вещи и горы вдруг обретали контур, —
Рядом с кармином — белила, рядом с синькой — зеленку,
Черное рядом с желтым — так, чтоб ярко и звонко.
Складывать краски мира просто и ясно, без мути,
Так, как флейтист выводит дыхом единым звуки.
В этом твое уменье, радость твоя и муки,
Мастер голодноокий, художник жаднорукий!
Блюдечко сажи, белила, оттенки соков и глин,
Резкая зелень, веселый, как рот Маргариты, кармин,
Цветные липучие смеси — ив этом запев и зачин
Того, что звучит на картонах моих нехитрых картин.
Чтоб заманить выпивоху, картину, как зазывалу,
Вывескою цепляют к духану или подвалу.
Иль присобачат к стенке сырого, темного зала,
И там она мокнет, и меркнет, и гибнет мало-помалу,
Медведь в сиянии месяца, желтый олень удивленный,
Вертел с багровым мясом, округлость бочки смоленой,
Толстый бурдюк, как брюхо пьяницы, оголенный —
Вот моя бедная живопись, цвет мой неутоленный!
Тускнеет она и жухнет, коробится, гаснет рано,
Гниет на полу кладовки, стареет в углу чулана.
Разве что вдруг понравится она владельцу духана
И будет повешена косо над изголовьем дивана.
Поставлю перед собою в светлом углу каморки
Сны свои недописанные, виденья свои, восторги —
Зори царицы Тамары, орлов, что недреманно зорки,
И взгляд прощальный солдата, и девушку на пригорке…
Глаза. Чтобы влиться свету, две дырки во лбу прокручены.
Два ясных луча, два пламени, что стали могучими, жгучими,
Чтоб прокричать про надежду тем, кто безверьем измучены,
В тьму одиночества ввергнуты, радости не научены.
Но гибнет мой крик, вмалеванный во взгляд людской и зверины и,
В сухой пылище базарной, в густой дымине трактирной,
И я в кухонной конурке, как пес голодный и смирный.
Мое всевиденье гаснет, как уголь в золе каминной.
Безудержна гибель красок, белила мертвы — хоть плакать!
Безжизненна гладь клеенки — какая в ней скука и слабость!
Что делать? Неужто снова рвать, и марать, и ляпать,
Плевать в эту плоскую раму, в ее бесцветную слякоть?
Стою перед ней. Здесь мой крах. И прах.
И камень с погоста. Здесь — яма, провал. Ничто.
Здесь даже нет с тенью сходства.
Распяты здесь на кресте надежда и благородство,
Просохли, как хилый плод, как гнойной язвы короста.
Чем зренье свою утолю, которое неутолимо?
Какую краску увижу, что прочим была незрима?
Тот ярмарочный мир, как шут, под слоями грима,
Потопчет мои холсты и протанцует мимо!
Бесплодный, как желтый лист, и желтый, как ветвь на сломе!
Безвольно, беззвучно умру в углу на мокрой соломе.
Лишь тихий вечерний луч, как ангел, промчится в доме.
Но я не услышу его в своей последней истоме.
И бог не сойдет ко мне по душу мою убогую,
Никто не вспомнит меня, я значил для всех не много.
Сойдется случайный люд, выпьют вина из рога,
И мой неказистый гроб проводят в свою дорогу.
И комья грузинской земли ударят в крышку гроба,
Чтобы услышать я мог отзвук земного грома —
Тук-тук, тук-тук… Кто стучит? Что это быть могло бы?
— Ты жив еще, человек? Дверь приоткрой немного! —
Под сдвинутыми бровями — взор угрюмый и вещий,
Уставленный в смерть, в злосчастье, куда-то далече, далече!
Шея втиснута в тело, грузно обвисли плечи,
Видно, ему привычно толкаться в базарном вече.
Трактирный дворник — хрипучий, никчемный, ненужный дед,
Вырос в дверном пробое, в темный тулуп одет,
И вносит поднос с едою, — чего там только нет! —
Куча отличной снеди — на поминах так и след.
Это — как холм священный, чьи запахи благовонны,
Стебли, цветы и листья его украшают склоны,
Яблоки рассыпные, дети цветущей кроны,
Сладостью полные гроздья, кислой прохладой — лимоны.
Терпкой миндальной горечью, вялым розовым цветом,
Плещет вино в кувшине — на расставанье со светом,
С этим чужим, неприютным, серым дождем одетым.
Трав весенних побеги, свежих листьев ладони,
Блики, цвета и запахи встали в пенье и звоне,
Растанцевались, вздыбились, словно живые кони,
На медном круглом подносе, в узорном кованом лоне.
Смоквы Грузии! Чувствую их дыханье из дали —
И чад кухонный сплывает, и словно стены упали,
И ветры садов тбилисских вдруг заблагоухали…
— Кто вас прислал ко мне так вовремя, генацвале?
Кто разложил на подносе эти цветы и злаки,
Кто обошелся без ханжества — не пожалел бедняги,
Но труда и понятья прислал мне добрые знаки,
Чтоб я не умер, брошенный в этом грязном бараке?
— Думаешь-вот жратва, чтобы пожрал перед смертью?
Думаешь, что спьяна я проявил усердье?
Мясо, перец, шашлык, этот кувшин и вертел…
— Нет, это благая весть. Думаю — это бессмертье.
Эти плоды впитают красок моих игру,
Яблоки позолотой украсят свою кожуру.
Я служил не обжорству, а красоте и добру.
И пе страшусь погибели, ибо весь не умру.
Нет, меня не обманешь ты, что стал у порога
И воплотился сейчас в дворника-кривонога,
Вещие очи твои на меня уставились строго.
Гляди на мое бессмертье, суровый посланец бога!