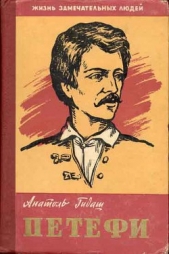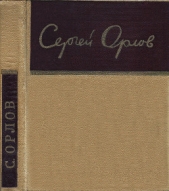Стихотворения. Рассказы. Малостранские повести

Стихотворения. Рассказы. Малостранские повести читать книгу онлайн
В тридцать пятый том второй серии вошли избранные произведения классика чешской литературы середины XXIX века Яна Неруды - поэтические циклы «Кладбищенские цветы», «Книги стихов», «Космические песни», «Простые мотивы», «Песни страстной пятницы», баллады и романсы, рассказы, очерки и статьи, а также «Малостранские повести».
Перевод Б. Ахмадулиной, Е. Благининой, М. Зенкевича, И. Гуровой, Б. Слуцкого, Л. Мартынова и др.
Вступительная статья Вилема Завады в переводе А. Соловьевой.
Примечания А. Соловьевой
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Хорошо бы заглянуть теперь в свои собственные глаза: ведь все эти миллионы огней должны отражаться в них!… Какое стремление, сколько мыслей пробуждают это небо, это море…
Вот на судно набегает большая волна: быстро ширится, как человеческое стремление, ярко блестит, как надежда людская,- и вот рухнула, рассыпалась искрами… Никогда не вернутся обратно ни волна, пи человек, пи мысль.
Но… что мне до этих волн, правда?! И что морю до моих мыслей, а небу до его отраженья в море? Мы ищем чего-то, что вне нас, а оно всюду: в небе, и в море, и в нас самих! Жизнь – ив солнцах, и в волнах, и в мыслях, и не будь у меня тоже своей собственной жизни, я истомился бы от жажды в этой вселенной, как мореплаватель без пресной воды посреди океана!…
Но удивительны эти переходы, эта перегонка из одного в другое. Душа получает жизнь от моря, море – от звезд, звезды…
Безумие! Последний закон всего сущего, наверно, до смешного прост, а я… я ничего, абсолютно ничего не знаю о нем. Знаю только, что колеса наших планетных часов тоже когда-нибудь перестанут стучать – гиря отлетит, маятник остановится, и тогда… тогда…
Эх!
ЭКЛОГА О ПЕРВОЗДАННОМ ЛЕСЕ
Представьте себе хорошенько, что такое для горожанина лес и вообще – что такое первозданный лес.
От нас до него и до истоков священной нашей Влтавы всего несколько часов, и дорога тянется вверх, вдоль Шумавы,- безмерной и безмерно прекрасной блюстительницы чешской. Мы едем по области мужественных ходов, и каждый миг перед нами – новая картина. То чернолесье, то молодняк и пастбища, то горная долина с деревушкой, будто жемчужиной, посреди,- одна гора пологая, другая островерхая, третья – одинокий мрачный утес. Уже под нами пространство, где хоть овес растет, и мы миновали деревеньку Квилды, где деревянная церквушка волнующе проста, а дома- без единого кирпича, сплошь американский «блок». Дорога идет дальше вверх – к охотничьему домику на Бушине, откуда всего на расстоянии выстрела – Бавария.
Отсюда лесная дорога еще занимательней. Шоссе гулко гудит, как под сводами, и по обеим сторонам между деревьев – следы страшной прошлогодней бури. Целые груды деревьев в чаще повалены, выворочены с корнем, опрокинуты, частью повисли на соседних деревьях либо рухнули на сторону – и торчат вершиной к земле, корнями к небу. Местами чащоба подступила к самому шоссе, стволы перегородили его, и пило пришлось прокладывать дорогу заново. Вдруг открылась лесная прогалина, и перед нами долина, а за пей – па длинном высоком косогоре по ту сторону – не осталось ни одного ствола, все свалено, перепутано, переломано. Есть во всем этом какая-то удивительная дикая гармония, как во внезапно застывшем потоке лавы, и мертвенность, впечатление кладбища. А вот еще такой же косогор, второе кладбище, а там – третье, четвертое. Здесь прошагала разъяренная природа, исполинская буря: на каждой горе – след ее ноги.
Отсюда – пешком. Цройдя полчаса девственным лесом, выходим опять на косогор,- новое кладбище! Здесь опять – ни одного дерева стоячего, все в жестоком беспорядке повалилось друг на друга, будто колосья на току, лежат двадцати-тридцатисаженные стволы, и у каждого на конце возвышается словно косматая скала – ни корни не могли расстаться с землей, ни земля – с корнями. Спускаемся по этим горам бурелома вниз, продираемся сквозь них, как маленькая букашка в высокой траве. Вот мы уже внизу, идем по долине,- беда, коль нога рискнет хоть на пядь ступить с тропинки в сторону – на этот зеленый ковер. Тут торфяник, трясина, поросшая ярко-зеленой карликовой сосной, и папоротником, и остропером, но вся поверхность словно ходуном ходит, среди зелени неподвижно блестит вода, и по тропинке идешь, будто
по качающейся доске, из-под ноги змейками прыскают струйки
воды – отступи только на пядь, и трясина сомкнется над твоей макушкой.
Шапки долой! Мы вступили в девственный лес,
Как описать его?
Мне вдруг показалось, будто я отброшен на целью тысячелетия назад, но радостно-молод, буйно-весел, независим от ирг мши и людей… свободен… свободен! На меня повеяло духом допргмеп-ного. Была тишина, та же самая, что царила здесь при сот I и»рении мира.
Неожиданно с противоположной горы сорвался ветер. Мы ею, правда, не почувствовали, но под нами, в прикорневых криптах, затрещало, в вышине зашумело, свод лесной пошатнулся туда-сюда – весь лес вдруг как будто вздохнул, в нижних ветвях засвистела легкая песенка – тот же шум, та же песня, что были при сотворении! И опять тишина. Ни звериных шагов, ни птичьего свиста, ни звука – торжественная тишина! Слышу биение своего сердца… Господи, как бы в этой тишине и голове и сердцу стало легче!
Мы в храме. Над нами – вверху темный, а в целом светлый свод, в котором лишь отдельными кусочками проглядывает голубое небо, словно мелкий камешек в мозаике. Колонны храма стройно уходят ввысь. Шея заболит, если вздумаешь смотреть, где им конец. Ветви переплетаются, образуя в вышине нечто вроде красивого вышивания. Вдоль стволов свисают вниз, к земле, седые пряди. Иной сухостой, уже без листьев, без коры, стоит еще прямо, похожий на белый скелет. А на земле – поколения, чей возраст – тысячелетия! Где нога в состоянии ступить прямо па землю, она ступает, будто но мягчайшему копру, А перебираясь через пова-лопиыо дороиьм, хинтшчпьон на богущую от аомли к ветвям или от ствола к стполу красимую гирлянду. Инину ты видишь трухлявое бревно поросшего нелепым мхом мортаого первозданного великана, на которого пааидидеи Другой; формы еще сохранились, но прогнившее тол о можно проионырнть пальцем насквозь; поперек второго лог третий! у пего тоже отвалились все ветви, лежит только длинный труп; а на него выбежали пятьдесят веселых молодых дороинеа, питпющихен останками отца; корешки их обнимают его, охпатили, как обруч, чтоб достичь земли, либо прошли ему прямо (чсаопь тело. О том, что произойдет в будущем, вы можете судить по соседнему пятисотлетнему юноше: отец под ним исчез, корни обраауют целое зданьице – часовенку в храме,- только на высоте еажопи от аомли сливаются в могучий ствол. А на один шаг дальше цолоо поколение буйно выбивается из ствола, еще прямого, по переломленного на половине высоты. С изумлением глядим мы на огромный круглый букет в вышине: невозможно представить себе ничего прекраснее – это у господа бога удачно получилось!
Мы медленно идем по храму девственного леса. Вот уже перед нами начало старой Влтавы, здесь еще совсем молоденькой, болтливой, ребячески своенравной. Ее уложили в каменную колыбельку, но ей там не нравится; она сейчас же выбегает вон,- малютка, пе больше пальца шириной. И бежит, и тараторит, болтает сама с собой, как ребятишки сами с собой разговаривают. А старый первозданный лес смотрит в ее искристые глазки и протягивает над нею свой плащ, чтоб солнце не обожгло.
ЙОЗЕФ МАНЕС
«Слава богу, отмучился!» – шепчем мы, стоя у гроба,-Слава богу! А у самих от жалости сжимается сердце. И чудится, будто нам стало легче – оттого, что наконец-то полегчало^ ему, художнику, мастеру, благородней итсму из благородных. Йозеф Маисс отмучился, отмучились и. мы. Закидно-прекрасной и до отчаяния многострадальной была его жизнь, и смерть сжалилась над ним, изрекши c.noo «Arneul». И мы вторим ей в унисон: «Amen!»-за самих, себя и за него тоже, и с души пашей словно свалился тяжкий.камень.
Йозеф Майес для чешской живописи был тем же, чем незаб-венный Вацлав Левый – для чешской скульптуры. О Манесе ценители в один голос утверждают, что «творения его отличает поэтическое совершенство, тщательность изучения предмета, блестящая техника и – главное – то высшее устремление истинного мастера, который, свободно владея разнообразными манерами, с порога отвергает любое шарлатанство». Тем самым они произнесли суд и над Вацлавом Левым, к которому эти слова относятся в равной мере.
Оба мастера были поэтами в самом высоком и чистом значении этого слова. Душа их вбирала в себя лишь благородную мысль, постигая высшую гармонию, мастерство овладевало высотами классики, а сами они по-прежнему оставались детьми – такова уж привилегия всех истинно возвышенных поэтических натур. Это не значит, конечно, что они не в состоянии были постичь свое время! Столь мощный дух в суть вещей проникает сразу, все схватывая на лету, однако несчастья нашей прозаической повседневной жизни, да и вообще все преходящее и непостоянное на «вечнозеленом дереве жизни» просто не имеет для него ценности;