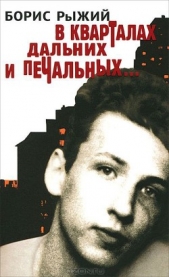Курчав и смугл, горяч, голубоглаз,
Смотрел и слушал. Влюбчива и зряча,
Его душа к великому влеклась,
Над чудом жизни радуясь и плача.
Он, был, как Русь, прекрасен без прикрас
И утомлен как загнанная кляча,
Когда упал, пред смертью глаз не пряча
На белый снег, весь кровью обагрясь.
Воспряв из мук, он к нам придет не раз,
Курчав и смугл, горяч, голубоглаз,
Какая жизнь в очах его таима!
С пером в руке, молясь ночным свечам,
Он светлый стих Авроре посвящал.
Ему, как нам, любезно это имя.
Не позднее 1966
Деревья нам бывают тезками,
встают при встречах на дыбы.
Есенин бражничал с березками.
Дружили с Пушкиным дубы.
Одним их кроны душу тронули,
а кто-то волю дал ножу,
а мне созвучны сосны стройные.
Я к ним за счастьем прихожу.
Со школьных лет мне все в них нравится,
моей душою принята
колючесть их и склонность к равенству,
застенчивость и прямота.
Солнцелюбивы и напористы
и золотые, словно мед,
они растут почти на полюсе
и у тропических широт.
Корыстолюбцам в назидание,
себя на битвы обрекав,
неприхотливые создания
шумят верхами в облаках.
Плебейки, труженицы, скромницы,
с землей и воздухом слиты,
в их сердцевине солнце кроется,
на них чешуйки золоты.
У них не счесть врагов-хулителей,
чтоб вянул стан, чтоб корень сох, —
но тем обильней, тем целительней
их смоляной и добрый сок.
А наживутся да натешатся, —
их свалит звонкая пила
и пригодятся для отечества
литые теплые тела.
Не отрекусь и не отстану я,
как леший, в сосенки залез.
Их богатырство первозданное
стиху б сгодилось позарез.
Их жизни нет чудней и сыгранней,
и вечно чаю, безголов,
мешать свое дыханье с иглами,
до боли губы исколов.
Не позднее 1957
* * *
О жуткий лепет старых книг! {471}
О бездна горя и печали!
Какие демоны писали
веков трагический дневник?..
Как дымно факелы чадят!
Лишенный радости и крова,
по кругам ада бродит Дант,
и небо мрачно и багрово.
Что проку соколу в крыле,
коль день за днем утраты множит?
Ушел смеющийся Рабле
искать великое «быть может».
Все та же факельная мгла.
Надежда изгнана из мира.
И горечь темная легла
на лоб голодного Шекспира.
Белесый бог берет трубу,
метет метель, поют полозья, —
в забитом наглухо гробу
под стражей Пушкина увозят.
В крови от головы до пят,
как будто не был нежно молод,
встает, убитый, и опять
над пулями смеется Овод…
Ты жив, их воздухом дыша,
их голосам суровым внемля?
Молись же молниям, душа!
Пади в отчаянье на землю!
Но в шуме жизни, в дрожи трав,
в блистанье капель на деревьях
я просыпаюсь, жив и здрав,
ладонью образы стерев их.
Озарена земная мгла,
полно друзей и прочен строй их.
На солнце капает смола
с лесов веселых новостроек.
В пчелином гуле, в птичьем гаме,
встречая солнышка восход,
ты не погибнешь, мудрый Гамлет,
ты будешь счастлив, Дон Кихот!
Пускай душе не знать урона,
пусть не уйдет из сердца жар
ни от любви неразделенной,
ни от бандитского ножа.
И я не верю мрачным толкам
к не мрачнею от забот.
Веселый друг Василий Теркин
меня на улицу зовет.
И в толчее и в шуме мы с ним
идем под ливнем голубым
и о Коммуне — Коммунизме,
как о любимой, говорим.
<1953, 1966>