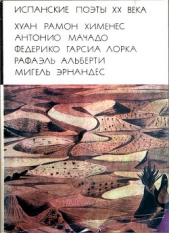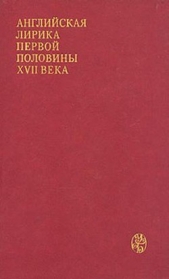(Уолл-стрит в тумане.
Почудилось, что утренний туман
сгущается, чтоб спрятать преступленье.
Там,
там вдали клубились,
бесчинствовали испаренья нефти,
ее несметных залежей, на цифры
переведенных, сложенных в подземной
сокровищнице — в сейфах-тайниках.
Их заковали в сталь и берегут
ревниво на глубинах недоступных,
глухих, куда с трудом их опустили
худые, изможденные нуждою
и никому не ведомые люди.
Нет, это не почудилось, когда я
взглянул на небо: спицы небоскребов,
экспрессов, мчащихся по вертикали, —
я все это увидел, просыпаясь.
Там,
там вдали, в шальном круговороте,
хрустели человеческие кости,
и в тягостное громыханье стали
врывался жалкий ропот тростника
растоптанного, табака и кофе,
мольба — все никло в нефтяном угаре,
охвачено горячкой нефтяною,
тонуло в бурном нефтяном прибое.
Я видел, как, переодетый в камень,
с бесчисленными прорезями окон,
перед глазами ширился и рос
преступник, как тянулся к облакам он.
Я это видел, слышал наяву.
Там,
там, среди копоти и вихрей пыли,
гудел призыв к насилью, грабежу;
его глушил моторов гул: суда,
отчаливая, шли к чужому небу,
на острова. И воздух оглашала
наемников вооруженных ругань.
Охрипший голос бушевал над молом,
над пальмовыми рощами, над лесом
голов и рук, отрубленных мачете.
И, жалобно стеная,
под стоны собственные низвергаясь в море
с затянутых туманом небоскребов,
мелькали: Никарагуа,
Гаити,
с забрызганными кровью берегами.
Их завыванья смешивались с воплем
Виргинских островов, американцам
недавно проданных на поруганье,
с хрипеньем Кубы,
Мексики проклятьем.
Колумбия,
Панама,
Коста-Рика,
Боливия,
Пуэрто-Рико,
Венесуэла,
чуть видные сквозь испаренья нефти,
охвачены горячкой нефтяною,
тонули в бурном нефтяном прибое.
Все это я увидел, я услышал в густом тумане,
и не только это.
Нью-Йорк. Уолл-стрит: залитый кровью банк,
гангреною разъеденные бронхи;
бесстрастных спрутов щупальца, готовых
все соки выжать из других народов.
Из этих сейфов вышли фарисеи,
посланцы ряженые грабежа:
Дэньелзы, Кэфри — дула револьверов
по гангстерской наставленных указке.
А ты, свобода, где ты? Темь вокруг.
Где факел твой, где ореол былой?
Ты пала, ты в бесчестии, в грязи.
На улицах твоей торгуют тенью.
Не терпится, неймется заправилам
вражды: вооруженное вторженье
за облака им грезится — чтоб кровью
полить светил нетронутых долины.
Америка, я сквозь туман твой слышу
замученных тобой народов вопли,
их речь, родную мне, их гнев… Запомни:
когда-нибудь настанет час расплаты.
Когда-нибудь, я верю, все тринадцать
полос твоих, все сорок восемь звезд
сгорят дотла в огне освобожденья,
в занявшемся пожаре нефтяном.
Негр, дай белому руку.
Белый, дай руку негру —
его обними, как брат;
на Кубе сейчас палят,
над Кубой янки парят.
Не видишь, не видишь, что ли?
Негр на карачках, в поле
ползая, румбу пляшет,
дико руками машет,
корчится весь от боли.
Не видишь, что ли,
негра про́клятой доли?
Его обними, как брат.
На Кубе янки царят.
Говорю, говорим, говорят…
Ты, и я, и все мы — друг другу:
там и тут плантаций трава
слышит: грузные жернова
водит ветер чужой по кругу.
Говорит тебе негр как другу:
белый, белый, не видишь, что ли,
что и ты на карачках в поле
приползаешь — к черной неволе.
Мелькают хвосты сорочьи,
летят и летят к нам птицы,
вокруг нас шумно стрекочут:
сластены-янки хлопочут
над сахарною столицей.
Негр, дай белому руку,
дай ему руку,
дайте друг другу руки.
Белый, дай руку негру,
дай ему руку,
дайте руки друг другу.
А янки, который снует
взад и вперед —
дай ему… в зубы, негр,
белый, дай ему… в зубы,
чтоб его отвадить от Кубы.
Боритесь смело
за правды дело
оба! Будьте накоротке,
белый с негром; рука в руке;
негр и белый — рука в руке.
Рука в руке.
(Я, по сини Карибской плывя, непрестанно
бодрый слышал призыв
Маринельо Хуана,
мне Педросо {191} стихи над водою звучали,
вспоминал я Хосе Мануэля {192} печали.
К недотрогам-агавам — от пальм и от слез
«Сибоней» нас десятого мая увез.
И ножом, обнаженным над гладью залива,
приласкал меня Мексики берег счастливый.)