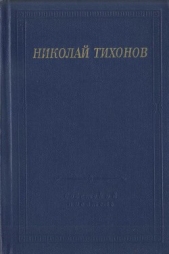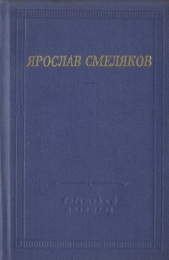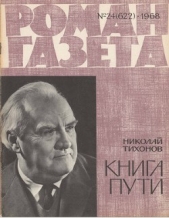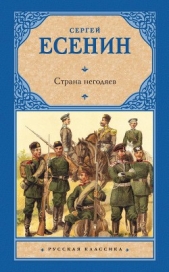Из погребов мещанства, из подполий
Любая юность движется с трудом:
Сначала — пьянство, мускулам — приволье,
А женщина является потом.
И, как строгал рогатки детский ножик,
Строгает страсть от головы до ног,
Она собачью преданность предложит
И, точно кошка, когтем полоснет.
Но дальше рост характера не точен,
Бюро блужданий справок не дает —
Профессия осветит жизнь до точки,
Где специальность мертвой упадет.
Или война подарит выстрел,
Гранатою снеся полголовы,
И рыжий мозг индивидуалиста
Забрызгает собрание травы.
Не решены ошибки и обычаи,
Обычными ошибками скользя.
Года спешат и, фамильярно тыча,
Внезапною ревизией грозят.
И, как девчонки, дразнят: «Испытай-ка,
Меня возьми, согни в бараний рог!»
Стареет мир. Характер, как хозяйка,
Идет и прячет юность под замок.
Ее не отомкнешь ключом,
Чтобы проверить лихорадкой голой,
Довольно здесь — подумают еще,
Что есть печаль в наш век веселый.
1924
Смолистый норд столицей взмыл,
Лес на город прыгнул, залил
И в камень когти запустил,
Так хмурим губы, если жаль нам,
Так когти выпускаем мы.
Мох шел по стенам, скуп и скор,
Бетон трещал и частью вымер,
Кусты пустели, точно вор,
Перегруженный золотыми.
Прибой ветвей ломал заборы,
Мел тополевою трухой,
И самый дерзкий, самый скорый
Жил под надзором лопухов.
Тогда мы создали отлив,
Щепой метало, сором, дымом,
Чтоб всё, что было истребимо, —
И лес и мох, испепелить.
И лишь дубы остались… Шорох
Умов их теплых перейми,
Вот так же гордо мыслят воды,
Так губы полнятся свободой,
Так вихри двигают людьми.
1924
Моя родня не гордая,
Гуляет ночь над городом
С ухаба на ухаб,
Над рынками — там гири спят,
Там — птичьи потроха.
Дыша щетиною в виски,
Взлохматив синий чуб,
Ты, ночь, ты можешь дружески
Узнать, чего хочу.
Ты издалека — ты кочуешь,
Поговорим, как я ночую.
В мерцаньях старого стекла,
Как в неизменной полынье,
Весь городской архипелаг
С шестиэтажья виден мне.
Ползучий свист любых забот
Там мелкой дрожи учит,
Признайся, ночь, с тобой
Я видел виды лучше.
Мы всё делили поровну,
Чтоб жадностью не мучиться,
Мне скучно здесь, моя родня,
Моих высот попутчица.
Мне скучно здесь оберегать
Моих привычек берега
От незнакомого врага.
Тут меня прерывает синяя тьма:
«Я не сбегала, как ты, с ума!»
Гудит ночная голова
И плещет руганью на ощупь.
«Вам приказали зимовать,
Ты логово схватил попроще.
Ты окопался здесь, но есть
Прорыв в зимующей ограде,
Блуждает начатая песнь,
С тобой за стол садится рядом.
Не объяснить ей нипочем,
Что спроса нет, что мы зимуем,
Что слово взяли на учет,
Как разновидность боевую.
Переменяют на лету
Привычки, навык ненароком,
Но ты не можешь, ты не ртуть,
Чтоб перекатываться боком».
«Так что ж сдаваться, ночь моя,
Иль отступать при каждом слове?
Зимовье здесь — так я нарочно
Перетряхну зимовье.
Еще стучат отряды слов,
Их возраст самый валкий,
А что до птичьих потрохов —
Пусть их храпят вповалку…»
И вижу, что нет ответа у ночи,
И только седеет звездный кушак,
И только жирней, торопливей, короче
В ухабах столицы звенит ее шаг.
Между 1923 и 1925
Повседневных мелочей круглый цирк
Оглушает, и пылит, и зовет.
Его крик летит петлей во все концы,
Роет память, словно землю старый крот.
И под грохот самой комнатной трубы,
Под сиянье лишаев на потолке,
Появляется, как вепрь, жесткий быт
Гладиатору в измятом пиджаке.
От свидетелей окрестности черны,
Быт идет, остря клыки между дел,
Через речи переходит, через сны,
Отдуваясь на арене, как в воде.
Его гнева мне знакома толщина,
Что вскипает, по обычаю урча,
Его хитрости измерена струна
Вплоть до пены, доплеснувшей до плеча.
Ежедневно перед толпами тревог
Гладиатором в изношенных штанах
Я красуюсь, не щадя ни рук ни ног,
Я оспариваю вепря черный шаг.
Он и к песенному вызову глухой,
Полуслеп он и, в конце концов, ничей,
Пляшет, харкает бумажною трухой,
Душит пылью нестерпимых мелочей.
Лишь запомнив и дела и песни те,
Что друзьями были мне,
На бой бреду,
Спотыкнусь ли в западне, на нищете,
В одиночество ль, как в яму, упаду,—
И пройдет амфитеатрами заря,
Та, последняя, что смоет, как прилив.
Если ж падать, так уж падать, разъярясь,
Хоть одно ребро у вепря проломив.
1928