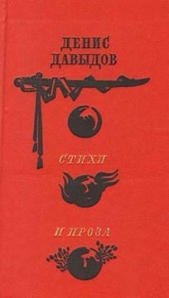Стихотворения. Поэмы. Проза

Стихотворения. Поэмы. Проза читать книгу онлайн
Яков Петрович Полонский (1819–1898) — замечательный лирик, обладающий в наивысшей степени тем, что Белинский в статье о нем назвал "чистым элементом поэзии". В его творчестве отразилась история всей русской классической поэзии XIX века: Полонский — младший современник Жуковского и старший современник Блока.
Яков Петрович Полонский — как бы живая история русской поэзии XIX века. Его творчество захватило своими краями всю классическую русскую поэзию: первые стихотворные опыты гимназиста Полонского заслужили одобрение Жуковского, и вместе с тем имя Полонского еще было живым поэтическим именем, когда начал писать Блок, для которого поэзия Полонского была «одним из основных литературных влияний». Среди поэтов конца века, с их духовным и стилевым разладом, Полонский занимает особое место — в его лирике воплотилось то лучшее, что дал поэзии XIX век: неразложимая цельность и глубина содержания, свобода и естественность выражения, благородство и прямодушие, твердая ясность идеала.
Хотя Полонский писал и поэмы, и рассказы, и воспоминания (особенно замечательны — о Тургеневе, с их подкупающим сочетанием простодушия и проницательности), все же он, конечно, прежде всего — лирический поэт, обладающий в наивысшей степени тем, что Белинский в статье о нем назвал «чистым элементом поэзии». Пожалуй, ни о ком другом этого нельзя сказать с такой определенностью, как о Полонском: никакая другая жизненная роль «не подходила» ему, кроме роли поэта.
В каком-то смысле Полонский был центром, точкой пересечения множества литературных, общественных, личных отношений своего времени. Место это принадлежит ему не по размаху и мощи поэтического гения, не по резкости и оригинальности общественной позиции, но по особой, одному Полонскому в такой мере свойственной поэтической отзывчивости, живого и как бы неизбежного отклика на все совершающееся вокруг него. Органическое, «стихийно певческое» начало в сочетании с постоянной готовностью души к отклику и создают в первую очередь своеобразие поэтической личности Полонского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
-- Как стол по-немецки?
-- Тиш,-- отвечает мальчик, продолжая наблюдать голубой дымок потухающей сигары или осматривая череп, лежащий на бюро, череп с темными-впадинами вместо глаз и трещинами вместо носа.
-- А книга как?
-- Дас бух,
-- Хорошо, молодец! Ну, а-а... (доктор в эту минуту думает о чем-то другом),-- а свеча как?
-- Свечки не было,-- отвечает мальчик.
-- Свечки не было, ну, а что ж еще было! Все знает -- а? молодец! Воскресенье как?
-- Зонтаг.
-- Умница. Ну, подай книгу. Учись, будешь математиком. Ну, теперь урок. Вот тебе: отсюда и досюда -- вот! -- При этом доктор делает на странице небольшую отметку ногтем. Илюша подправляет эту отметку грифелем и удаляется с уверенностью, что уже в этот день отец не позовет его.
Таким образом, все воспитание Илюши ограничивалось отцовскими уроками. "Впрочем,-- думал доктор,-- сын мой так еще мал, что нечего серьезно думать о его воспитании". Все свободное время от этих маленьких уроков Илюша оставался на попечении Августы. Августа во всех отношениях была дорогая девушка, хоть получала всего только шесть рублей жалованья в месяц. Назначение ее в доме было: перестилать постели, мести комнаты, снимать паутину, выбивать ковер, лежавший под ногами ученого-доктора, подавать ему умываться, смотреть за бельем, прислуживать за столом, и, наконец, ухаживать за Илюшей, то есть быть чем-то вроде, няньки и спать за ширмами в одной с ним комнате. Все это выполняла она с усердием и, сверх того, была такая страстная охотница стряпать, что нередко появлялась в комнатах с жарким, лоснящимся румянцем на щеках и на лбу, от долгого стояния пред отверстием широкой кухонной печи, или с руками, напудренными мукой, или насквозь продушенная жженым кофе. Из этого сами можете заключить, много ли оставалось у нее времени для того, чтоб заниматься мальчиком, несмотря на то что она всей теплотой души своей была к нему привязана.
Праздно и уединенно проходили дни Илюши, и он по-своему разнообразил их. По утрам кормил канареек, что составляло для него одно из приятнейших занятий, или пробирался в кухню, которая (необходимо надо заметить) отделялась от его детской одним только темным проходным коридорчиком. Там, усевшись на скамье, молча любовался он пылающими дровами или прислушивался к шуму и треску охватившего их пламени. Иногда кухарка Домна обращалась с ним без. всякой церемонии.
-- Что вы тут, в самом деле, уселись? -- говорила она,-- разве это ваше место? Повернуться негде!
Не возражая ни слова, Илюша морщился, покидал скамью и молча удалялся в гостиную (она же и зала), забирался с ногами на старый кожаный диванчик (это было его любимое местечко) и предавался разного рода размышлениям или, по целым часам, не сводя глаз, задумчиво смотрел на гипсовую статую, изображавшую богиню Весну, с цветочным венком на голове и в фантастической одежде...
Эта статуя, в аршин вышины, стояла в углу на круглом пьедестале. Кириллу Кирилловичу она была подарена еще за границей, в лучшую пору его жизни, именно в первый год его супружества. Кто-то уверил его, что эта статуя изображает богиню здравия и что такого слепка в России не найдет он ни за какие деньги. Отправляясь на пароходе из Любека в Петербург, он велел уложить ее в особенный ящик, к немалому удовольствию жены своей, которая недаром была дочерью художника и ценила подарки прежних друзей, когда-то посещавших мастерскую отца ее.
Такова была обстановка всей жизни Илюши; у него не было ни одного товарища, мальчика одних с ним лет, который бы прибегал поиграть с ним. О шалостях, свойственных его возрасту, бедный ребенок не имел ни малейшего понятия. В доме почти не слыхать было его присутствия. Самая резвость его была какая-то тихая. Он больше любил забиться куда-нибудь в уголок, и, когда задумывался, большие серые глаза его, с расширенными зрачками, долго оставались неподвижными. Редко видел он посторонних, еще реже выходил на улицу. Августа была постоянно занята; одного его пускать боялись, да он и сам не пошел бы никуда без Августы. Фигуры кузнецов, прохаживающихся по двору, всегда в преувеличенно-страшном виде рисовались в его воображении. Однажды, проходя по задней лестнице, где-то в четвертом этаже, услыхал он бранчивый крик какой-то женщины и плач ребенка. Этого было для него достаточно, чтоб вообразить, что наверху обитают такие злые люди, которым ничего не стоит, повстречавшись с ним, отрезать ему ухо для собственного удовольствия.
Если он был худ и бледен, то это, вероятно, от недостатка движения; если казался сутуловатым -- то потому, что никто ни разу не выпрямил спины его, он же имел привычку приподнимать то правое, то левое плечо и, когда садился, любил облокачиваться на свои худенькие колени. Как мальчика не избалованного дачной жизнью, не тянуло его за город ни весной, ни летом: Илюша довольствовался отворенным окном или раскрытой форточкой, сквозь которую смело просовывал свою кудрявую головку и, бывало, в сумерки, с какой-то, ему самому непонятной тоской, вслушивался в смутный шум и гул совершенно незнакомого ему города.
Несмотря на это неопределенное чувство грусти, с каждым днем все более и более свыкался он с своим одиночеством, которое было для него вреднее всякой медленной отравы. Голова его искала здоровой, питательной пищи и не находила. Воображение (огонь, с которым и детям играть опасно), развиваясь в нем насчет других способностей, постепенно создало вокруг него тот странный, фантастический и Гофмана достойный мир, которого никто, даже сам великий психолог и философ, подозревать не мог.
Кто объяснит, как это делалось, что мальчик всему, каждой мелочи в доме умел придать какое-то особенное, в зрелом возрасте непонятное, невообразимое значение. Каждая вещь была для него чем-то одушевленным, требующим от него известной степени сочувствия. Стук вбиваемого гвоздя для него был криком несчастного, которому не хочется лезть в стену... Когда Августа вешала салоп свой, он был уверен, что и гвоздь это чувствует и салоп понимает свое положение.
Кто бы мог подумать, что природная наблюдательность, самая заметная и всё-таки никем не замеченная черта в его характере, не только не ослабила, но, так сказать, помогла играть его прихотливой, в высшей степени прихотливой фантазии.
Однажды, поздним вечером, потихоньку, ползком, пробрался он в кабинет своего отца, прижался и притаился, как мышонок, в уголку между шкапом с книгами и диваном, на котором на ночь постилалась простыня, клались подушки и одеяло для Кирилла Кирилловича (кабинет его по ночам превращался в спальню). Кирилл Кириллович сидел, по обыкновению, перед лампой с медным колпаком и, наклонив к перу голову, писал... Светлый кружок рисовался на темном потолке, прямо над стеклянной трубкой лампы и ж над широким затылком трудолюбивого доктора.... Илюша долго смотрел на этот кружок, долго наблюдал его... наконец, заметил в середине его неуловимо-быстрое колебание едва заметной тени (следствие подымающейся кверху копоти) и уже задал себе вопрос: что это такое делается над головой отца его? уже не крошечные ли это духи вылетают из каждого торчком стоящего на голове доктора волос, в виде вихря, похожего на столб комаров, вьющихся перед закатом солнца над болотной кучкой.
-- Барин,-- произнесла Августа, неожиданно появляясь в полурастворенную дверь.
Илюша прикрылся концом бархатного халата, свесившегося с дивана, и притаил дыхание.
-- А? -- спросил доктор, поднимая голову.
-- Где это наше дитя?.. нигде не видать его.
-- Его здесь нет, не приходил,-- отозвался Кирилл Кириллович.
-- Чудеса! Не найду его, да и только.
-- Как же это?.. Не забежал ли в кухню -- а? Не в сенях ли? Как бы того, смотри, не скатился с лестницы.
-- И не знаю, где, право,-- произнесла Августа, исчезая за дверью.
Минут через пять доктор вышел из кабинета. Вслед за ним, тихо, как котенок, проскользнул в темную гостиную Илюша; вскочил на кожаный диванчик, притворился спящим и торжествовал, слушая, как везде ищут его, как отец его идет в кухню, а Августа, со свечей в руках проходя коридорчиком, говорит: "Дитя, куда вы спрятались?" Надо было видеть его радость, когда Августа, открыв его пребывание на диване, так удивилась, что едва не выронила подсвечника из рук.