Четыре туберозы
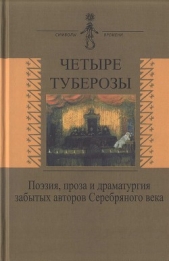
Четыре туберозы читать книгу онлайн
Молодой исследователь Николай Носов собрал в своей книге произведения четырех «минорных» авторов Серебряного века — Сергея Соколова, Нины Петровской, Александра Ланга и Иоганнеса фон Гюнтера. Они входили в круг общения В. Я. Брюсова, Андрея Белого, К. Д. Бальмонта, В. Ф. Ходасевича. На фоне знаменитых современников эти авторы оказались в тени, к их текстам фактически не возвращались уже более столетия. Составитель посвящает каждому автору обстоятельный биографический очерк, обнажая искания своих героев на фоне эпохи. Сделана попытка понять мистическую, иррациональную, метафизическую составляющую их творчества. Рассказы, стихи, поэмы, драмы, печатавшиеся в самом начале XX века, вновь становятся фактом русской литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Николай Носов
СЕРГЕЙ СОКОЛОВ (КРЕЧЕТОВ)
ИНАЯ ЖИЗНЬ **
У человека две души, и он живёт двумя жизнями.
Апелляция к здравому смыслу есть не что иное, как ссылка на суждение толпы, от одобрения которой философ хорошеет.
Я говорил ему:
«Мне душно в ограде вашей жизни. Я знаю — она создавалась веками, кровь и слёзы прочно спаяли её, но её стены — серы, как тусклые кольца мёртвого удава, потолок вместо неба тяжёлым сводом повис над головой, и в окна смотрит безглазый белый туман.
Кругом проходят тени людей. Одни смеются, другие плачут. Но я не знаю ни тех, которые смеются, ни тех, которые плачут.
Мне кажется странной и чуждой их торопливость, с какой они спешат начинать и заканчивать свои маленькие дела, как будто — ещё один миг, один миг, — и утрата будет невозвратима.
Они продают и покупают и землю, и горы, и море, — и то, что делают их руки и их машины из дерева, шерсти и кожи. Они клянутся и спорят… Но время летит, и привычное „завтра“ сменяет не раз усталое „сегодня“, — и изделия их рук распадаются пылью, не оставив следа, а земля, и море, и горы равнодушно смотрят на своих минувших владельцев…
Они бегут, спотыкаясь, беспорядочной толпой и, взмахнув руками, исчезают в пропасти.
Но так же одевается земля то пёстрым пологом трав, то пушистым белым покровом, и так же блестят на солнце алмазные короны гор и снеговые хребты уходят в далёкое небо, и так же море поёт свои тысячелетние гимны, и волны, изгибая спины, ласково и злобно, лижут чёрные скалы, и так же кипит белым ключом на прибрежных камнях седая пена».
Я замолчал и, не отрываясь, следил, как в глубине камина загорались и гасли красные искры, и маленькие золотые змейки пробегали и скрывались в серой золе.
Он тоже молчал, обхватив колени руками. В его странно-неподвижных зрачках отражались вспышки огня, но и в багряном отсвете пламени лицо его было бледно белизною мрамора под лучами заката, и вместо обычной едкой усмешки в углах его рта дрожала тихая горечь.
Усталая грусть была разлита в этой бледной голове, голове сатира, который заслушался далёких звуков церковного хорала и замер, склонённый, в глухой чаще леса.
Углы и стены тонули во мраке, и тем более ясно и до странности отчётливо рисовался мертвенный очерк его лица с острым профилем и глубоко сидящими глазами.
Медленно и звонко пробили часы…
Неторопливая мерность уплывающих волн говорила о роковом и неизбежном, — неведомом, но страшно знакомом, — о том, что когда-то знала, но забыла ослеплённая душа…
И вот оно вернулось и прихлынуло снова…
И я мучительно содрогался от желания вспомнить. И в его глазах я увидел то же усилие и ту же муку.
Беглая зарница блеснула в мозгу…
Но она скользнула и разом исчезла, и мы опять, не отрываясь, глядели на догоравшие угли, и кругом не было ничего, кроме надвинувшейся тьмы и золотых задумчивых змеек, исчезавших в серой золе.
И я заговорил опять:
«На свете мало людей, и те, что есть, мерцают, как одинокие могильные огни, — мерцают и гаснут, не зная друг о друге.
Когда я иду по улице, и предо мной в набежавших сумерках мелькнёт на пустынном перекрёстке силуэт случайного прохожего, — мелькнёт и исчезнет вдали, внезапная боль ранит сердце… Быть может, это и был тот, — близкий, родной, — тот, кого недоставало всю жизнь.
Но я уже не слышу его шагов… А он идёт, идёт, одинокий, как и я, и, быть может, думает то же.
И я не встречу его никогда.
Проклятие случаю, той слепой игре, которая соединяет и разъединяет людей.
О, я хотел бы, чтобы далеко, среди волн глубокого моря, был остров, где бы жили свободные, родные духом, знающие жизнь и утомлённые жизнью люди, — люди с душами, многострунными, как лютни.
Я часто думаю об этом блаженном острове.
Вот — я вижу, как моя лодка с лёгким шуршаньем врезается в песчаный берег.
Я выхожу и в немом восторге простираю руки вперёд…
Там бесконечные аллеи вьются под тёмными сводами спящих кипарисов и уходят в священный полумрак. В тени развесистых платанов белые лебеди глядятся в прозрачную зеркальность озёр. Высоко взметнулись в лазурь белоснежные портики, освещённые солнцем, и длинный ряд мраморных ступеней сбегает к самому морю, и изумрудные волны с ласковым шёпотом целуют блистающий камень, согретый лучами.
Умиротворённый, успокоенный иду я неспешными шагами вместе с другими людьми в широких белых одеждах; мы проходим под зелёным шатром, и над нашими головами ласково шелестят, сплетаясь, длинные ветви.
А в ночной час, когда кипарисы молчат, как вереницы застывших призраков, и мраморы голубеют от поцелуев луны, и глухо вздыхает полусонный прибой, — мы сидим на каменных ступенях, и тихо льётся неторопливая беседа.
И нет в ней ни капли того яда, которым отравлены люди.
А когда замолкают речи, и лишь волны чуть слышно поют свою задумчивую песню, люди в белых одеждах, осиянные лунным светом, кажутся недвижными и строгими, как изваяния умерших богов».
Я умолк, и снова было тихо… Только сгущалась кругом темнота.
Так много долгих вечеров провели мы вместе — я и бледный человек с профилем сатира. Днём мы были с людьми, получали и отдавали червонцы, ссорились и клеветали, лгали и клялись, защищали и обвиняли, и всякий думал, что купил нашу душу.
Но когда скрывались в дома усталые люди — есть, пить, и наслаждаться, и когда чёрная пасть зияла в окна бездонной пустотой, мы сходились и говорили подолгу, и глядели, точно околдованные, как вьются и тают в серой золе золотые задумчивые змейки.
Мы говорили о том, о чём не думают хмурые, озабоченные люди.
И с каждым днём всё тоньше и тоньше становилась грань, отделявшая нас от того, — иного, полузабытого и неуловимого, что не было сил припомнить.
Но всё плотнее и непроницаемей была стеклянная завеса, закрывшая от нас жизнь, и смутно и глухо долетали до нас её дальние шумы.
Однажды, в бурную зимнюю ночь, я и тот бледный человек, — мы сидели, как всегда, вдвоём и глядели, не отрываясь, в пламенеющие глаза огня.
За окном стонала метель, то нарастая, то упадая, как бурный переплеск морского прибоя. Она говорила о несказанном, полузабытом, но страшно знакомом, — что знала когда-то, но забыла ослеплённая душа.
И мы, дрожа от напряжения, ловили наплывающие волны…
Мгновенные молнии дальних намёков озаряли наши умы, и никогда ещё так ясно не стучалась в дверь нашего сознания другая, таинственная жизнь.
Мы не говорили друг другу ничего, потому что мы чувствовали больше, чем могут сказать слова.
И так шли часы. Внезапно мой друг поднялся, провёл рукой по глазам, как бы усиливаясь вспомнить, мучительная дрожь пробежала по его лицу, и через минуту за ним захлопнулась дверь, и с лестницы донёсся смутный гул удаляющихся шагов.
Я остался один… Вихрь неопределённых мыслей и ощущений бешено крутился во мне. Кровь стучала и била в виски, и красный туман заволакивал глаза.
Голова кружилась… Я невольно закрыл глаза руками и прислушивался к жужжанью спутанного клубка, который вращался в моём мозгу, — и я слышал, я чувствовал, как в нём яснела и выделялась одна мысль, — она стала длинной и острой, как клинок; она пронизала меня всего, и вот……


























