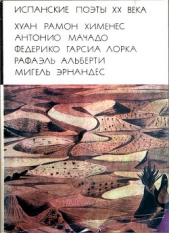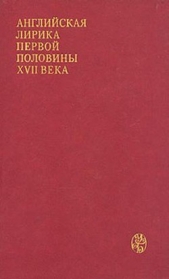Из тени смерть и солнце встали вдруг.
Цирк загудел, арена завертелась —
ее пронзил фанфары алый звук.
Раскрылись, словно веера, хлопки.
С трибун, кружась, летят они — за смелость
тореро присужденные венки.
Вот злобный полумесяц вздыбил море,
и, буйно грохоча, оно зажглось от фонаря,
что гаснет, с ветром споря.
Лошадкой карусельною, ритмично,
без седока скачи, коррида, сквозь
лужайку славы сахарно-коричной.
Пять пик взметнулись вверх, и пять валов
свои хребты крутые расцветили
кровавым ликованьем вымпелов.
Грохочущий вокруг водоворот
гвоздик и лунно-солнечных мантилий
сок апельсинных бандерилий {167} пьет.
Разрезанная надвое любовью,
что привита на пояс золотой,
свободная, но истекая кровью,
владычица небес и парапета,
у смерти в ложе ланью молодой
трепещет роза смоляного цвета.
Взлетел ослепшим вороном берет —
крещеной мавританке шлет тореро
признанье, посвященье и привет.
Он бой на солнце вел. Теперь во мрак,
где угрожает полумесяц серый
ему, тростинке, делает он шаг.
Песок арены — золото оправы,
в которой, на крутых рогах быка,
висит серебряный осколок славы.
И, под щетиной пик кровоточащий,
прибой центрует этот круг, пока
кармин не превратится в лик Скорбящей.
Пал полумесяц, сталью поражен.
На празднестве гремушек и перкали,
как гладиатор, умирает он,
чтоб на трибунах, пьяных без вина,
иносказанья славы заплескали
и на тореро сверглась их волна.
Луна, плывущая над головой, —
глаз семафоров железнодорожных
и голубой обходчик путевой.
Стальных и звонких амазонок скок,
всплеск лязга, стука и свистков тревожных,
корона искр и световой поток.
Прощай! Отсрочки больше я не клянчу.
Пусть поезд (выстрел, и рука висит!)
мчит в Андалузию, будя Ламанчу.
Вот Ко́рдова. (Базарная повозка,
позвякивая серебром, рысит.
Паяц на нитке, жестяной и плоский.)
Знай, твой платок в распахнутый эфир
не в Ко́рдове, не в Кадисе — в Севилье
взлетит, лазурный, как Гвадалквивир.
Севилья. (Пива? Вы с ума сошли:
экспрессы крестят только мансанильей {168},
лимонным соком крестят корабли.)
Танцуйте, леди! Мистер, полбокала?
Хиральда, одноногий гироскоп {169},
вращайся, как вращалась изначала.
Вот Кадис. (Выстрел на перроне!
Это канвой романа послужить могло б…
А море в листья парусов одето.)
Пусть с Острова смотреть сирен на дне
моряк, весь в белом, на своем фрегате
бесплатно повезет тебя во сне.
Вот Малага. (Повсюду мрак лежит,
лишь стрелка-светлячок на циферблате
рулеткой обезумевшей кружит.)
О, побережных пальм наклон упругий —
тот зонтик, под которым на своей моторке
ты по бухте чертишь дуги!
Читай меню вагона-ресторана:
гвоздика под селитрою и к ней вино —
мускат, как амарант багряный.
Прощай! Прощай! И уж теперь одна
в дороге ненасытным взором ветер
стремительных пейзажей пей до дна.
Открытка с видом: синевой сквозит
арктический бульвар. Вы не озябли?
Зима то вверх, то вниз в санях скользит.
Витрины-клетки лавка меховая
распахивает настежь: обросли
медвежьей белой шкурою трамваи.
Мой обнаженный лоб в последний раз
целуйте, романтичные сеньоры.
Венеры чище каждая из вас.
Вниманье! Руль направо, Амариллис!
Вираж — и на асфальте ледяном
два черных гнутых рельса закурились.
Дорогу, кабальеро! Пусть никто
не помешает франтам без рубашек
убить январь, закутанный в пальто.
Идут декольтированные розы
по юркой снежной тропке, и горит
над их бесполой статью нимб мороза.
Открыток ностальгия, мы давно
знакомы — по альбомам корабельным
и по экранам пляжного кино.