На грани тьмы и света
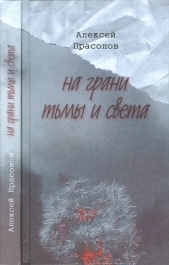
На грани тьмы и света читать книгу онлайн
В этой книге, в тревожных прасоловских строках внимательный, чуткий к поэтическому слову читатель найдет философское размышление о Времени и Пространстве, о смысле Бытия, о предназначении Человека в этом Мире, почувствует боль и радость живой души, мятущейся в поисках истины, родственного отклика, любви…
Предостерегая от надвигающейся тьмы, Поэт и сегодня напоминает каждому из нас о главном — «нам сужден проницательный свет, чтоб таили его, не губя…»
По сохранившимся в архиве А. Т. Прасолова рукописям стихотворений 1962—1966 годов воспроизведены их первоначальные варианты, которые отличаются от прижизненных публикаций автора.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

АЛЕКСЕЙ ПРАСОЛОВ
НА ГРАНИ ТЬМЫ И СВЕТА
Виктор Акаткин. В поисках утраченного солнца
Алексею Прасолову исполнилось бы в этом году семьдесят пять, однако из них поэту принадлежало лишь сорок два. Ему выпал короткий, но трудный, изломистый путь испытаний, надежд и поражений, как и многим, чье детство опалила война и безотцовщина. Однако меньше всего интересовался он своей внешней биографией, фактологией своей жизни. С ранних лет он пытается определиться во времени, в человеческом и природном космосе: кто я? где я и откуда? что творится вокруг меня? что было вчера и что будет завтра? какие потери и обретения таит в себе неудержимо рвущийся вперед прогресс?
Принято думать, будто новые модели мира, новое миропонимание прозревают и предлагают нам на освоение крупные ученые, философы, политики. Однако раньше многих иное состояние мира и человеческих умов предощущают, предугадывают люди творческого порыва, наделенные панорамным, во все стороны развернутым зрением и слухом. Их провидческий дар с особой полнотой реализуется на переломных рубежах истории, на перепутье эпох.
Многие столетия господствовала так называемая просветительская модель мира, в которой все обусловлено и подчинено Разуму, как во Вселенной Солнцу (в религиозных представлениях на месте Разума и Солнца находим Бога). Новые времена обосновали иную структуру мира, где нет уже Бога и Разума как единого дисциплинирующего центра либо уравнены в правах и силе Воля, Бог и Дьявол, Добро и Зло, Порядок и Хаос (что особенно характерно для Серебряного века).
На исходе двадцатого столетия человечество оказалось на пороге принципиально новых научных представлений о мире — «науки хаоса» (И. Пригожин). Просветительское мышление признавало наличие хаоса, считалось с ним, но намеревалось преодолеть его культурой, оставить его на второстепенных ролях. Новое сознание признает как единственно возможное неравновесное, нестабильное состояние мира. Упорядочивающий, гармонизирующий разум вытесняет «постмодернистская чувствительность», которая способна воспринимать мир только «в его принципиальной фрагментарности, неупорядоченности, мир, лишенный единого центра как в физическом, так и в ценностном смысле» (В. Чубарова). Моноцентрическая картина мира спешно меняется на полицентрическую. Можно одновременно пребывать в разных смысловых и культурных единствах, связанных между собою лишь воображением поэта. Главным становится сам факт этого многоадресного пребывания, идеологически и этически независимое, «беспривязное» мышление, для которого нет ни общего смысла, ни ведущей идеи, ни логики, ни прямоидущего событийного сюжета.
Вероятно, это новое миропонимание порождено усложнившимися реальностями XX века, нелогичностью и непредсказуемостью исторического процесса. Но в немалой степени оно объяснимо попытками преодолеть концептуальное, эпическое, тоталитарное мышление, авторский монологизм стремлением обосновать и утвердить принцип диалогизма как отличительный признак искусства слова (М. Бахтин). От идеологического монизма, от идейного диктата — к выявлению полюсов и противоначал, от соцреалистических установок к свободному, творческому поиску и безбоязненному самовыражению шли многие наши поэты середины века, в числе которых прежде всего необходимо назвать Алексея Прасолова.
Рождение, появление на свет у него — листочка ли, травинки ли, вообще всего живого — всегда стремительно и безоглядно, будто это яростный выпад против небытия: «как тоненькие выстрелы — трава», «трав стремленье штыковое», «тонкими зелеными струями осень бьет упорно из земли» и т. п. Вырывается из-подо льда река, «мрак лучом неистовым расколот», «огнем пронзило слово», «память вспышкой озарила» — и опять все напористо, взрывчато, так что некогда опомниться, оглядеться, помечтать. Калейдоскопичность, дискретность бытия, сшибка мрака и света, живого и мертвого — приметы нового времени, наполненного конфликтами и катастрофами. Детские годы Прасолова прошли через «огненную купель войны», отсюда эти «взрывы», «вспышки», «выстрелы», «штыки», отсюда обнаженная полюсность его сознания. Отсюда всевластная поэтика контраста в его стихах.
Поэзия была для него не только призванием, не только самоспасением, но и прорывом на новые высоты мышления, в запредельное, о чем он говорит постоянно. На крыльях стиха он надеялся взлететь туда, куда может пробиться только луч света, преодолеть земное тяготение, оторваться от обыденных представлений и обрести духовную свободу. Вот почему он почти с пренебрежением отталкивается от всего фактического, очерково-повествовательного в поэзии, от внешней событийности: «Мне хочется черт биографии — внутренней, биографии души. Буду это вызывать — из глубины». В письмах к И. Ростовцевой он не раз вступает в открытую полемику с Жигулиным и другими поэтами, якобы скользящими по поверхности жизни: их любимый конек — важные сами по себе события, темы, сюжеты. А ему нужно было другое: «Мне мало видеть хлеб, мозоли, тяжесть труда — мне нужен Мир, Век, Человек. Человек — изнутри, а не одна его роба». Придавленный неволей, бескрылой обыденщиной, «грязью обстановки убогой», он признается, что его мысль «озлоблена окружающей средой», от которой «хочется уйти в далекое и великое». Эти уходы порой выливались в холодную надмирность и абстракции. Но они были разведкой нового мышления. Переполненный сложными, драматическими переживаниями, он не сразу находит соответствующие средства их выражения: «Словарь слишком сужен, при написании новых стихов я чувствовал его обручи резко». Он складывал свои стихи не стандартными кирпичиками, а какими-то тяжелыми, угловатыми глыбами, словно извлекая их из-под какого-то обвала. Многое тут объясняют отсутствие школы, незнание «поэтической этики», литературная неискушенность, в чем он сам признавался. С другой стороны, невозможность высказать то, что хотел, цензурные запреты литературных надзирателей, опускающих шлагбаум перед всем из ряда вон выходящим. Довольно лояльный к социальной системе, Прасолов остро реагировал на ее духовную неподвижность и нетерпимость к инакомыслию: «Почему я не могу говорить о том, что у меня на душе? Почему? Ведь я, как и всякий, то Я, из которых складывается Мы, Люди. Говорить так, как другие, я не умею. Болит, а в стихах такая подозрительная бодрость. Не умею я так… А скажи — о своем — куда я с ним после пойду? Где его примут официозные души?» Примут — не примут, поэзия ждать не может: «Поэт должен говорить вольно — вот чего мне хотелось и хочется». Он чувствовал, что ему тесен не только мир неволи, не только охранительная идеология системы, но и собственные представления о мире, внушенные этой системой: «Я ломаю в себе какие-то пределы, мучившие меня, как наслоения провинции». Или: «Как хочется вырваться из самого себя! Расковаться. Буду идти к этому». Он готов был «покончить с собой прежним — во всем», но сохранить в себе то, что добыто ценой страданий и прозрений: «Я не хочу быть духовно опекаемым там, где прислушиваюсь к своему».
Прасолов одним из первых советских поэтов середины века разглядел за незыблемым фасадом режима клубящийся грозный хаос. Это не только навеяно Тютчевым и Блоком, это и предчувствие набегов стихий, неподконтрольных никакой власти. Хаос, признается он в одном из писем, придает «основную окраску моей внутренней жизни». А она, его внутренняя жизнь, была подобием того, что бушевало в жизни внешней. Мираж, мрак, бездна, мятеж, земная нестройность, стихия, темная необоримая сила, беда — этот словесный ряд синонимичен хаосу. «Душа стала слушать и услышала себя в хаосе», — подводит он некий итог своим переживаниям середины 60-х. В его стихах хаос по преимуществу природного происхождения, спутник стихий, выражение всего, что человек не смог приручить, обуздать. В социальной сфере — это войны, техногенные катастрофы, взрывы человеческих страстей. Там, где прошелся хаос, все способно обернуться в свою противоположность. Даже «державная сила», скрепляющая страну, перед лицом хаоса может ударить по самой себе.
























