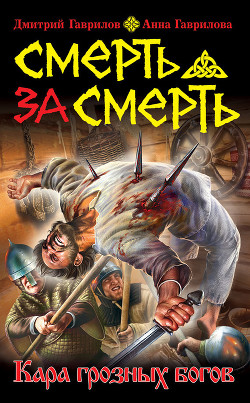На смерть друга
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу На смерть друга, Рецептер Владимир Эммануилович-- . Жанр: Поэзия. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.

Название: На смерть друга
Дата добавления: 16 январь 2020
Количество просмотров: 148
На смерть друга читать книгу онлайн
На смерть друга - читать бесплатно онлайн , автор Рецептер Владимир Эммануилович
Стихотворение посвящено писателю и литературоведу Станиславу Борисовичу Рассадину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перейти на страницу:
Владимир Эммануилович Рецептер
На смерть друга
Памяти Станислава Рассадина
I
Грубой ниткой заштопан твой лоб,
заморожено грешное тело.
И мертвецкий пиджак ты огрёб
против воли, судьба принадела.
Нет, конечно же, это — не ты,
старший брат и ровесник, и пастырь,
что с усмешкой смотрел на бинты
и на боль, и на кровь, и на пластырь.
Оболочка. Останки. Футляр
благородной души справедливой,
нам отдавшей пронзительный дар,
образ времени, горько правдивый.
В ожиданье большого огня,
крематорской подверженный смете,
ты по-прежнему выше меня,
и себя, и болезни, и смерти…
II
Прощай другим и не прощай себе.
На том стоим,
архангельской трубе
вверяя слух оставшийся и голос.
Без этой дружбы время раскололось,
отпали смыслы прежние, отпал
страх поражений, бедствий и опал.
Успев простить, ты все успел на свете.
Не холодна вода в холодной Лете,
а горький сон Вергилий составлял,
найдя черновики своих начал.
Огнем гори теперь, литература, —
шутиха, пьянь, завистница и дура
в чужом пиру, — мой друг тебя простил,
повысив свет действительных светил.
Благодарю за то, что я годами
шел за тобой, читая вещий знак.
Прости нас всех и оставайся с нами,
как друг, как брат…
Как спутник…
Как вожак…
III
Как же стерпеть эти черные дроги
до крематория в пробках дороги,
под равнодушный шумок площадей...
Как пережить этот год високосный,
подло расчисленный, словно допросный...
Пей и не жалуйся... Или запей…
Эй, календарь!.. Перепрыгивай даты!..
Руки выкручивает, треклятый,
на одиночество жертвуя чек…
Только денек февраля никчемушный
вынут из года, а сборщик подушный
хочет из времени вырезать век…
IV
Все эти дни меня трясло,
срывался по любой причине.
Рифмующее ремесло,
как мент, пытало о кончине
ближайшего из всех друзей.
Нет и не быть тебе замены.
Квартира чахнет, как музей.
Отчуждены диван и стены.
Библиотека сиротой
глядит во след убывшей плоти.
С неслыханною частотой
машинка просит о работе.
Но тщетно ей и тошно мне,
одноязыким патриотам;
в междугородней тишине
нет места строкам и отчетам.
Прости, безбожник дорогой,
напраслину моих молений.
Ты мог оставшейся ногой
ступить на храмовы ступени.
Ты мог приходский свой доход
поднять однажды щедрой данью,
но предпочел иной исход
раскаянью и покаянью.
Оставив дружбу и жилье,
ты оборвал любые речи
затем, чтоб претерпеть свое
во имя бесконечной встречи
с единственной…
V
Случилось так, что ты себе накаркал.
Упрямец, не послушался меня.
На високосный год, на первый квартал
нам назначалась эта западня.
Так выпало, что реаниматолог
тебя в твою палату не пустил,
отдал хирургу, и наркозный полог
отгородил остаток дней и сил.
Ты отошел. А я не мог смириться
и, как живому, все бубнил тебе,
что твой блестящий слог
и взгляд провидца
не по нутру буграм и голытьбе;
что важно из статей составить книги,
одну, вторую, может быть еще.
Но ты молчал, снимая все вериги,
и больше мне не подставлял плечо.
Свыкаются. И радуются мелким
успехам, двери шуткам приоткрыв.
Спешат по новым хитростям и стрелкам,
пытаются пристроить твой архив...
Ты всех простил, прости и мне заботы
работные, беспомощность мою,
пошли мне вслух приветы и остроты.
…На перекрестке, понимая кто ты,
бормочущий и плачущий стою…
VI
Пять лет в заложниках,
лежачий,
самим собой зажат в тиски,
ты ставил высшие задачи,
но задыхался от тоски.
Друзей отодвигала челядь,
ждя часа…
Ты ее простил,
не в силах что сказать,
а сделать
уже, тем более без сил.
Ты ждал полета без оглядки
к той, что давно к себе зовет,
когда меняя распорядки,
ты враз достигнешь всех высот…
Перейти на страницу: