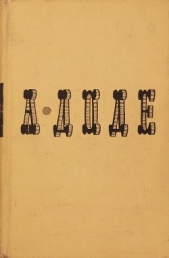Том 7. Бессмертный. Пьесы. Воспоминания. Статьи. Заметки о жизни
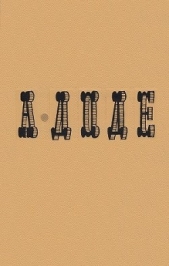
Том 7. Бессмертный. Пьесы. Воспоминания. Статьи. Заметки о жизни читать книгу онлайн
Настоящее издание позволяет читателю в полной мере познакомиться с творчеством французского писателя Альфонса Доде. В его книгах можно выделить два главных направления: одно отличают юмор, ирония и яркость воображения; другому свойственна точность наблюдений, сближающая Доде с натуралистами. Хотя оба направления присутствуют во всех книгах Доде, его сочинения можно разделить на две группы. К первой группе относятся вдохновленные Провансом «Письма с моей мельницы» и «Тартарен из Тараскона» — самые оригинальные и известные его произведения. Ко второй группе принадлежат в основном большие романы, в которых он не слишком дает волю воображению, стремится списывать характеры с реальных лиц и местом действия чаще всего избирает Париж.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но то был мираж, порожденный Африкой. В Париже меня ждало разочарование. Ведь я все-таки вернулся в Париж, вернулся, ни минуты не медля, раньше, чем того требовали осторожность и предписание врачей. Но какое мне было дело до тумана и снега, навстречу которым я стремился, какое мне было дело до тепла и лазури, оставленных позади? Видеть на сцене мою пьесу — вот что мне было важно!.. Пароход, Марсель. — и я уже сижу в вагоне, дрожа от холода и упоения. Приезжаю в Париж вечером, в шесть часов, уже стемнело. Я не обедаю. «Извозчик! В Одеон!». О молодость!
Я вошел в театр перед поднятием занавеса. Зал выглядел довольно странно. В эту последнюю ночь карнавала у Бюллье устраивались танцы, и многие студенты и студентки пришли в маскарадных костюмах, чтобы провести часа два в театре. Здесь собрались шуты и шутихи, полишинели, пьеро и пьеретты. «Трудно, очень трудно исторгнуть слезы у полишинелей!» — размышлял я в своем уголке. И, однако, они плакали, да так, что блестки на их горбах казались бесчисленными слезинками, переливавшимися на свету. Справа от меня сидела шутиха — она то и дело встряхивала от волнения головой, и бубенчики на ее колпаке звенели. Моей соседкой слева была дебелая Пьеретта с чувствительным сердцем, комичная в своем умилении: слезы ручьем текли из круглых глаз толстухи и прокладывали две борозды на обсыпанных мукою щеках. Нет, телеграмма не обманула меня: пьеса пользовалась огромным успехом. Между тем мне, ее автору, хотелось провалиться сквозь землю. Пьесу, которую эти славные люди награждали аплодисментами, я находил постыдной, отвратительной. Горе мне! Разве я представлял себе моего героя таким, как вот этот грузный мужчина, который придал себе сходство с Беранже, чтобы казаться добродетельным и благодушным? Разумеется, я преувеличивал: Тиссеран и Руссейль, талантливые актеры, играли превосходно и во многом содействовали моему успеху. Но разочарование было слишком сильно и слишком велика разница между тем, что я думал создать, и тем, что мне показали при неумолимом свете рампы, который подчеркивает все погрешности, все недочеты. И я глубоко страдал, видя вместо своего идеала это набитое соломой чучело. Несмотря на волнение зрителей, несмотря на крики «браво», меня охватило невыразимое чувство неловкоски и стыда. Кровь бросилась мне в лицо, щеки покрылись красными пятнами. Казалось, вся эта карнавальная публика узнает меня, смеется надо мной. Растерянный, в испарине, не помня себя, я повторял жесты актеров. Мне хотелось, чтобы они говорили быстрее, глотали слова, не ходили, а бегали, тогда моей муке скорей бы пришел конец. Какое облегчение почувствовал я, когда занавес наконец опустился! Подняв воротник, устыженный, дрожащий, как вор, я крался вдоль стен.
АНРИ РОШФОР [144]
Я познакомился в 1859 году с неким славным малым, мелким чиновником, служившим в ратуше. Звали его Анри Рошфор, но тогда это имя не пользовалось известностью. Рошфор жил тихо, скромно со своими родителями на старинной улице Двух Шаров, неподалеку от ратуши, в многолюдном квартале Сен-Дени, наводненном торговлей и ремеслом, где дома пестрят сверху донизу рекламами, образцами товаров и вывесками лавчонок: «Цветы и перья, поддельные драгоценности, бумага и фольга, дутый жемчуг».' Мастерские на всех этажах, неумолчный шум труда, вырывающийся из отворенных окон; пакуют товары, грузят подводы, бегают приказчики с пером за ухом; проходит одетая в блузу работница, сохраняя в волосах золотые блестки; изредка видишь богатый особняк, превращенный в склад; герб и скульптуры его фасада переносят тебя на два столетия назад, и в воображении возникают разбогатевшие лакеи, купающиеся в золоте финансисты, граф де Хорн, Регент, Ло, Миссисипи, Система, [145] словом, та эпоха, когда на этих ныне буржуазных улицах то и дело рождались и таяли баснословные богатства, повинуясь прихотям золотой лихорадки, которая свирепствовала в близлежащей зловонной щели, до сих пор сохранившей название «улица Кенкампуа». Мой друг Рошфор походил на свою улицу: он тоже не дорожил прошлым. Было известно, что Анри — аристократ, сын графа, но он, казалось, не знал об этом и именовался просто Рошфор, и эта американская простота приводила меня в изумление: ведь я только что приехал с нашего тщеславного легитимистского Юга.
В 1830 году, когда июльская революция закрыла перед молодым поколением будущее и испортила ему карьеру, Рошфор-отец только еще вступал в жизнь. Это было чрезвычайно любезное и остроумное поколение, сумевшее сохранить при Луи-Филиппе как бы аромат старого режима, игнорировавшее новую королевскую власть и любившее Францию, поколение, привязанное к старшей ветви Бурбонов, хорошо понимавшее всю невозможность реставрации — вот почему его бескорыстная скептическая преданность не переходила в мрачный фанатизм или сектантство. Одна часть молодежи забавлялась, бомбардируя Тюильри пробками от шампанского, или протестовала против пошлости буржуазных нравов, с грохотом проезжая по легендарной мостовой Куртиль [146] среди криков, карнавальных масок и звона бубенцов, другая, менее ветреная или более бедная, пыталась заработать средства к существованию, которых уже нельзя было ожидать от милости короля. Так поступил Лозанн, [147] которого мы встречали недавно улыбающегося, бодрого, все еще представительного, несмотря на преклонный возраст, все еще аристократа, несмотря на ремесло водевилиста и фамильярно-ласковое прозвище «папаша Лозанн», которое ему дали собратья по перу. Так же пришлось поступить и отцу Рошфора, некогда блиставшему среди шумной роялистской молодежи, другу бывшего гвардейца корпуса «Шока». Завсегдатай кулис, Рошфор-отец вспомнил, как и Лозанн, о театре и, когда наступили плохие времена, пришел в театр, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Во всяком любителе театра живет драматург, и переход от аплодисментов, которыми ты награждаешь пьесы, до попытки писать их самому не так уже труден. Словом, г-н де Рошфор-Люсе начал писать пьесы и стал водевилистом.
Эти подробности не бесполезны — они помогут нам составить представление о детстве Рошфора, детстве любопытном, своеобразном, чисто парижском, которое протекает между лицеем и театральным миром, более патриархальным, чем это может показаться, в кафе, посещаемых актерами и драматургами, где мальчик бывает по воскресеньям с отцом и где вместо звона заздравных кубков, о котором мечтают провинциалы, раздается сухой стук игральных костей или домино. Итак, Рошфор был типом, хорошо нам знакомым; такой юнец, сын артиста или литератора, с детства посвящен во все тайны кулис, он называет по имени прославленных актеров, не пропускает ни одной премьеры, потихоньку сует театральные билеты своему классному наставнику и получает право сочинять, зарывшись носом в парту между трубкой и ручной ящерицей, множество драматических и иных шедевров, которые он несет в свободный день, надвинув на лоб фуражку и превозмогая неистовое сердцебиение, в вечно закрытые редакции журналов и к насмешливым театральным портье. Судьба таких лицеистов определена заранее: в двадцать лет они поступают на службу в министерство или в городскую управу и продолжают тайком заниматься литературой, прячась от начальника, как они прятались от преподавателя. Рошфор не избежал общей участи. Испробовав свои силы в области высокой литературы и безуспешно разослав на все поэтические конкурсы Франции бесчисленное множество сонетов и од, он, когда я с ним познакомился, изводил бумагу и перья парижского муниципалитета на короткие отзывы о спектаклях для «Шаривари», который обновлял свой персонал, пытаясь впрыснуть себе более молодую кровь.
Хотя я и не мог угадать, кем будет впоследствии Рошфор, его лицо меня сразу заинтересовало. Было ясно, что он не из тех, кто станет долго мириться с размеренной жизнью чиновника, протекающей под однообразное тиканье конторских часов, надоедливых, как шварцвальдская кукушка. Всем известна необычная, почти не изменившаяся с молодости внешность Рошфора: волосы цвета горящего пунша над слишком высоким лбом, очагом мигреней и вместилищем вдохновения, черные, блестящие, глубоко запавшие глаза, тонкий прямой нос, горькая складка у губ, овал лица, удлиненный остроконечной бородкой, которая невольно наводит на мысль о скептическом Дои Кихоте или о кротком Мефистофеле. Он был очень худ, носил плохонький, узкий черный костюм и имел привычку ходить, засунув руки в карманы брюк. Из-за этой прискорбной привычки он казался еще худее, так как при этом подчеркивалась острота его локтей и узость плеч. Великодушный человек и хороший друг, он был способен на величайшее самопожертвование, при внешней холодности он был очень нервен и раздражителен. Однажды из-за какой-то статьи у него вышла неприятность с директором «Голуа». Тогдашний «Голуа» (во Франции газета перевоплощается чаще, чем Будда, и проходит через большее количество рук, чем невеста короля Гарбы), тогдашний «Голуа» представлял собой один из недолговечных листков, которые вырастают на мостовой возле театральных кафе и литературных пивных. Его директора, веселого, остроумного, розового и толстого коротышку, звали Дельвай, но, помнится, он подписывался Дельбрехт — по — видимому, он находил эту фамилию более благозвучной. Дельвай, или Дельбрехт, как вам будет угодно, вызвал Рошфора на дуэль. Рошфор предпочел бы пистолет, — он не был грозным стрелком, но ему все же случалось выигрывать призы на ярмарках; что же касается шпаги, то он никогда не видел ее ни издали, ни вблизи. В качестве оскорбленного Дельвай имел право выбора, и он выбрал шпагу. «Согласен, — молвил Рошфор, — будем драться на шпагах». Стали репетировать дуэль в комнате Пьера Верона. Рошфор был готов умереть, но не хотел показаться смешным. Итак, Верон пригласил здоровенного детину, старшего сержанта зуавов, впоследствии зарубленного при Сольферино, человека весьма искусного по части поклонов, позиций и хороших манер, как их понимают в фехтовальных залах казарм. «После вас… — Помилуйте! — Ваш слуга. — Благоволите, сударь». Не прошло и десяти минут, как Рошфор мог бы заткнуть за пояс своим изяществом самого усача Ла Раме. Оба чемпиона встретились на следующий день между Парижем и Версалем, в прелестном Шавильском лесочке, хорошо нам знакомом, ибо мы часто ходим туда по воскресеньям с менее воинственными намерениями. В тот день шел мелкий холодный дождь, его капли пузырьками вскипали на поверхности пруда, серая влажная пелена окутывала зеленый амфитеатр холмов, пашни и красные откосы песчаного карьера. Несмотря на дождь, противники сняли рубашки. Если бы не серьезность положения, при виде их можно было бы расхохотаться: один, низенький, жирный, в белом фланелевом жилете с синей отделкой, безукоривненно, словно на подмостках, занял исходное положение, другой — длинный, сухой, желтый, мрачный и такой костлявый, что; казалось, на теле у него нет ни одного местечка, куда бы могло впиться острие шпаги. К сожалению, за ночь он забыл превосходные уроки старшего сержанта, держал оружие, как свечку, разил вслепую, открывался. После первого же выпада Рошфору был нанесен прямой удар, скользнувший по ребрам. Шпага ранила его, но очень легко. Это был его первый поединок.