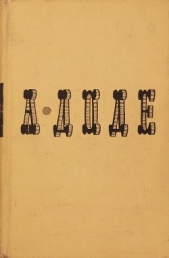Том 7. Бессмертный. Пьесы. Воспоминания. Статьи. Заметки о жизни
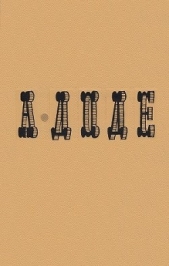
Том 7. Бессмертный. Пьесы. Воспоминания. Статьи. Заметки о жизни читать книгу онлайн
Настоящее издание позволяет читателю в полной мере познакомиться с творчеством французского писателя Альфонса Доде. В его книгах можно выделить два главных направления: одно отличают юмор, ирония и яркость воображения; другому свойственна точность наблюдений, сближающая Доде с натуралистами. Хотя оба направления присутствуют во всех книгах Доде, его сочинения можно разделить на две группы. К первой группе относятся вдохновленные Провансом «Письма с моей мельницы» и «Тартарен из Тараскона» — самые оригинальные и известные его произведения. Ко второй группе принадлежат в основном большие романы, в которых он не слишком дает волю воображению, стремится списывать характеры с реальных лиц и местом действия чаще всего избирает Париж.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Меня осенило, — говорил он скромно и, я бы сказал, вдохновенно, с тем особым акцентом, из-за которого трогательнейшая надгробная речь может показаться комичной, — когда я ночью соловья слушал… Думаю себе: «птица божья так чудно поет, а ведь у нее только одна дырочка в глотке, а ты, Бюиссон, не справишься, когда на твоем галубете целых три?»
Рассуждение довольно глупое, но в тот день оно показалось мне прелестным.
Истый южанин лишь тогда испытывает полное наслаждение, когда он его с кем-нибудь делит. Я восторгался Бюиссоном — другие тоже должны были им восторгаться. И вот я езжу по Парижу вместе с Бюиссоном, показываю его как феномен, собираю друзей, устраиваю у себя музыкальный вечер. Бюиссон выступает, рассказывает о своей борьбе и повторяет: «Меня осенило…» Он питал явное пристрастие к этой фразе. Мои друзья распрощались с нами, притворившись, что восхищены.
Это был лишь первый шаг. Мою пьесу собирался поставить театр Амбигю, и как раз пьесу о Провансе! Я заговорил с тогдашним директором Хоштейцом о Бюиссоне, о его тамбурине, галубете и, можете мне поверить, пустил в ход все свое красноречие! Целую неделю я разжигал директора. Под конец он мне сказал:
— А что, если вставить в пьесу номер с вашим музыкантом? Тамбурин мог бы стать гвоздем спектакля.
Я уверен, что мой провансалец не спал всю ночь. На следующий день мы сели втроем на извозчика: он, тамбурин и я. В двенадцать пятнадцать, как говорится в протоколах репетиций, мы остановились, окруженные группой зевак, привлеченных необычным видом инструмента, у низенькой стыдливой дверцы, которая даже в самых роскошных театрах служит не очень почетным входом для авторов, актеров и служащих театра.
— Экая темнотища! — вздыхал провансалец, когда мы шли по длинному сырому коридору, где разгуливали сквозняки, как и во всех театральных коридорах. — Холодище и темнотища!
Тамбурин был, по-видимому, того же мнения; он стукался обо все углы, обо все ступеньки винтовой лестницы, протяжно охая и оглушительно грохоча. Наконец, мы кое-как добрались до сцены. Шла репетиция. Как безобразен бывает театр по утрам, когда видны все его изъяны, когда нет вечерней сутолоки, нет жизни, мишуры и яркого освещения! Озабоченные люди ходят на цыпочках, говорят тихо, словно печальные тени на берегу Стикса или рабочие в шахте. Пахнет плесенью и газом. Люди и вещи — актеры, расхаживающие взад и вперед, фантастическое нагромождение декораций — все кажется пепельно-серым при слабом, скупом свете фонарей и газовых рожков, затененных наподобие лампы Дэви. [136] Словно для того, чтобы сгустить этот мрак и создать впечатление, что находишься в подземелье, время от времени отворяется дверь ложи второго или третьего яруса, и полоска дневного света просачивается оттуда в черный колодец зала. Это зрелище, непривычное для моего земляка, несколько обескуражило его. Но он тут же приосанился, мужественно направился в глубину сцены и взгромоздился на приготовленную для него бочку. С тамбурином, который он держал в руках, получилось две бочки, поставленные одна на другую. Напрасно я протестовал, напрасно говорил: «В Провансе музыканты играют, следуя за танцорами, ваша бочка недопустима». Хоштейн уверил меня, что игрок на тамбурине заменяет деревенского скрипача, а в театре деревенский скрипач немыслим без бочки. Бочка так бочка! К тому же Бюиссон, по-прежнему веря в успех, уже стоял на ней, переминаясь с ноги на ногу, чтобы не потерять равновесия, и говорил мне: «Сойдет!». Итак, мы, директор, автор и актеры, оставили его с флейтой во рту, с палочкой в руке за кучей декораций, подставок, блоков, канатов, а сами сели на авансцене, чтобы лучше судить о впечатлении.
— Меня осенило, — слышался в темноте голос Бюиссона, — когда я ночью под оливой соловья слушал…
— Хорошо, хорошо! Сыграй нам что-нибудь! — сердито крикнул я; эти слова начинали действовать мне на нервы.
— Туту, пампам!..
— Тише! Слушайте!
— Интересно, что получится!
Боже правый! Да разве могла понравиться этой скептической аудитории деревенская музыка, дрожащая, тихая, которая долетала до нас, как жужжание насекомого, из глубины сцены? Я видел, что насмешники-актеры, вечно радующиеся неудаче товарища, иронически кривили свои бритые губы. Стоя под газовым рожком, пожарный хохотал до упаду. Даже суфлер был выведен из своей обычной сонливости этим странным событием; он приподнялся на руках и, похожий на гигантскую черепаху, высунулся из будки. Между тем Бюиссон кончил играть и повторил свою фразу, видимо, находя ее удачной:
— Птица божья так чудно поет, а ведь у нее только одна дырочка в глотке, а ты, Бюиссон, не справишься, когда на твоем галубете целых три?
— О чем болтает ваш музыкант, о каких дырочках? — спросил меня Хоштейн.
Я попытался объяснить суть дела, объяснить, как важно, чтобы во флейте было не пять отверстий, а три, попытался охарактеризовать своеобразие игры одного человека на двух инструментах.
— Но ведь играть вдвоем гораздо удобнее, — заметила Мари Лоран.
В доказательство я попытался изобразить па фарандолы. Мои усилия были и тут напрасны, передо мной приоткрылась жестокая правда: чтобы и другие увидели те поэтические картины, которые являлись моим глазам, когда я слушал бесхитростные старинные мелодии тамбурина, музыканту следовало привезти с собою в Париж откос холма, клочок синего неба и глоток южного воз* духа.
— За работу, за работу, друзья!
Репетиция возобновилась, никто больше не обращал внимания на музыканта. Бюиссон не двигался. Он стоял на посту, твердо уверенный, что участвует в спектакле. После первого акта мне стало стыдно оставлять его на бочке, где маячил его силуэт.
— Слезай скорее, Бюиссон!
— А когда подписывать бумагу?
Несчастный был уверен в том, что имел потрясающий успех, и показывал мне гербовую бумагу — договор, заранее приготовленной с чисто крестьянской предусмотрительностью.
— Нет, не сегодня… Тебе напишут… Осторожнее, черт возьми! Твой тамбурин обо все задевает и так грохочет!
Теперь я стыдился тамбурина, боялся, что кто-нибудь услышит его, и какова же была моя радость, мое облегчение, когда мы погрузили его на извозчика! Целую неделю я не смел показаться в театре.
Вскоре ко мне пришел Бюиссон.
— Ну как договор?..
— Договор?.. Ах да, договор!.. Видишь ли, Хоштейн не решается, он не понимает…
— Вот дурак!
По горькому, жесткому тону, каким кроткий музыкант произнес эти слова, я понял всю глубину совершенного мною преступления. Опьяненный моим восторгом, моими похвалами, превознесенный, потерявший голову, погибший, он уже смотрел на себя как на великого человека и верил — увы! разве я не говорил ему об этом? — что Париж готовит ему триумф за триумфом! Попробуйте остановить тамбурин, который, несмотря на камни и колючки, с грохотом катится по наклонной плоскости иллюзии! Я и не пытался — это было бы безумием, напрасной тратой времени.
Впрочем, у Бюиссона были теперь новые почитатели, и даже весьма знаменитые: Фелисьен Давид [137] и Теофиль Готье, которым Мистраль написал, как и мне. Автору путешествия на Восток [138] и композитору, воспевшему страну роз, поэтам и мечтателям, людям, легко воспламенявшимся, всегда готовым подняться над действительностью, нетрудно было вообразить любую картину, внимая безыскусственным мелодиям тамбурина.
Пока галубет заливался соловьем, одному из них чудились берега родной Дурансы и ступенчатые склоны холмов в Кадене, а другого мечта увлекала еще дальше, и он черпал в монотонных, глухих ударах тамбурина смутные и сладостные воспоминания о ночах на Золотом роге и об арабских дербука.
Оба они внезапно воспылали любовью к подлинному, хотя и чуждому парижанам таланту Бюиссона. Реклама неистовствовала целых две недели; во всех газетах говорилось о тамбурине, иллюстрированные журналы помещали портреты Бюиссона, гордо «выпрямившегося, победоносного, с легкой флейтой в руке, с тамбурином на перевязи. Упоенный славой музыкант дюжинами покупал газеты и отправлял на родину.