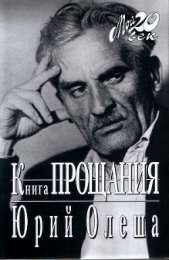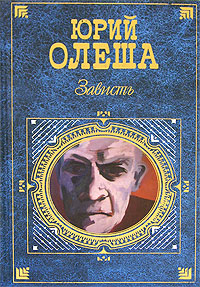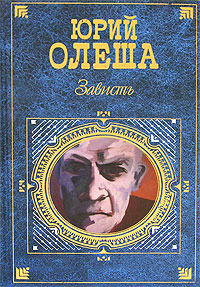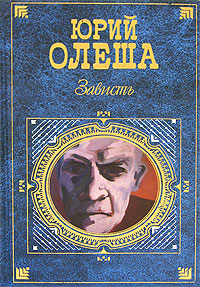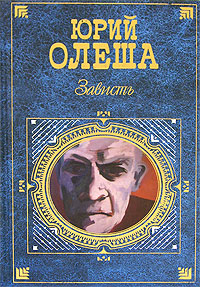Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем "Список благодеяний "

Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем "Список благодеяний " читать книгу онлайн
Работа над пьесой и спектаклем Список благодеяний Ю. Олеши и Вс. Мейерхольда пришлась на годы великого перелома (1929–1931). В книге рассказана история замысла Олеши и многочисленные цензурные приключения вещи, в результате которых смысл пьесы существенно изменился. Важнейшую часть книги составляют обнаруженные в архиве Олеши черновые варианты и ранняя редакция Списка (первоначально Исповедь ), а также уникальные материалы архива Мейерхольда, дающие возможность оценить новаторство его режиссерской технологии. Публикуются также стенограммы общественных диспутов вокруг Списка благодеяний, накал которых сравним со спорами в связи с Днями Турбиных М. А. Булгакова во МХАТе. Совместная работа двух замечательных художников позволяет автору коснуться ряда центральных мировоззренческих вопросов российской интеллигенции на рубеже эпох.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дневниковые записи Олеши 1929–1931 годов дают замечательный материал для понимания самоощущения писателя с наступлением «мажорного времени реконструктивных перемен» в стране, где люди начинают чувствовать себя «лишними». Он видит в России отвращающую несвободу и регламент, невежество и стеснение личности (разительный контраст которой представляет любимая вольнодышащая Одесса, город «европейский», «отплывающий»), помнит время юности, когда дальние путешествия казались нормальным, легким и привычным занятием людей. Размышляет о том, что необходимым условием «взрослости» должно быть владение собственностью и принятие ответственности за нее. Ощущает собственную ненужность стране. Мимоходом дает и поразительное определение чисто российского понимания, что такое интеллигент: небывалая дотоле «специальность» [15].
К концу 20-х Олеша — модный писатель, известный и за границей (хотя в Европе так никогда и не побывает). О нем высоко отзываются и западные интеллектуалы, и русские эмигранты — Вл. Ходасевич, Н. Берберова, Ж. П. Сартр. Но слава его связана с «Завистью», вышедшей в 1927 году, а теперь Олеша занят драматургией. 1929–1931 годы — время его премьер во МХАТе («Три толстяка»), у вахтанговцев и в ленинградском БДТ («Заговор чувств»), в ГосТИМе («Список благодеяний»).
Хотя писателю к этому времени всего тридцать, он отчего-то ощущает себя преждевременно постаревшим. Олеша переживает мировоззренческий кризис. После переворота 1917 года прошло более десяти лет. Теперь невозможно не видеть, в каком направлении идут перемены. Вместо европеизации Октябрь принес людям нечто совершенно иное. Олеша ощущает раздвоенность по отношению к проблеме интеллигенции и ее (сомнительной) ценности для народ а.
«В день двенадцатилетия Октябрьской революции я, советский писатель, задаю себе вопрос: что ты сделал, советский писатель, для пролетариата?
Для пролетариата я не сделал ничего. Я считаю себя умным, умудренным, вековым. Я носитель культуры и тому подобное. Все это — я, таким я считаю себя, таким меня считает общественность. Я пишу повести, очерки, рассказы, стихи и пьесы. Я ставлю вопросы, разрабатываю проблемы, освещаю стороны жизни и тому подобное. Меня издают, распространяют, ставят на библиотечные полки и читают. [И все это есть ложь.] Все в порядке. Это внешне.
На самом деле… Не подлежит никакому сомнению, что все, написанное мною, пролетариату совершенно неинтересно и не нужно. Это интеллигентские тонкости, изыски, все то, что я мог бы написать, если бы пролетарской революции и не случилось.
Я, писатель-интеллигент, пишу вещи непонятные и не нужные пролетариату. Но говорят так: то, что массе непонятно сегодня, будет понятно завтра, масса подрастет, она поймет и скажет мне спасибо. Разрешите мне думать, что такое отношение к массе есть отношение господское. Нетрудно себя успокоить: я умный, умудренный, вековой, — а масса дура. Я носитель культуры, а масса долгое время не имела к культуре доступа, и поэтому мы не понимаем друг друга, между нами пропасть, и масса должна лезть через чертовы мосты, чтобы достигнуть моих высот. Так очень легко успокоить себя. Мы успокаиваем себя и продолжаем лезть на свои изыски дальше, дальше, еще дальше лезем на высоты, и пропасть становится все более зияющей и страшной.
Разрешите мне думать, что альпинизм, которым занимаемся мы, унизителен, жалок. Высоты наши картонны. Не нужно звать массу на эти высоты.
В день двенадцатилетия Октябрьской революции я, думая о себе и своем движении в революции, прихожу к заключению, что мною, советским писателем, для пролетариата не сделано ничего. Ах, мне станут говорить — и друзья, и критики, и руководители, — что это не так, что я ошибаюсь, что есть различная работа писателя: один пишет для рабочих, другой для учащейся молодежи, третий для рабочей интеллигенции; что нельзя равняться на низшего, что нужно поднять массу до себя, и так далее.
А мне кажется, что гораздо правильней было бы равняться на низшего. Это не значит, что надо снижать себя, — напротив, это значит, что надо возвысить свое мастерство до максимальной степени. Я утверждаю следующее: любую тонкую мысль, новую и своеобразную, любой образ, положение, кажущееся на первый взгляд доступным только тому, кто изощрен, — можно выразить так, что оно ударит по самому примитивному сознанию. Для этого раз и навсегда надо отказаться от господского отношения к массе. Надо слезть с картонных вершин. Они очень шатки, они продырявлены, они еле держатся, и стыдно, развеваясь в разные стороны, стоять на них.
[Ни один роман не написан у нас для пролетариата.] Очень легко запутать сознание тех, кто пришел теперь к дверям культуры, и очень легко может случиться, что новый человек станет обезьяной старого. Его делают обезьяной. Ему говорят: читай наши романы, смотри наши пьесы, слушай наши стихи. Вот так надо чувствовать, жить и переживать. Ты груб, мы тонкие. Учись быть тонким. [У нас был Шекспир. Знаешь? Ах, не знаешь. Ну, вот знай].
Да, — мне скажут: — Как же! А великая культура прошлого. А Шекспир? А Рембрандт? А Бетховен?
[Так вот, я отвечу, что ничего общего между нами, интеллигентами, с нашими тонкостями, с Шекспиром и Бетховеном нет].
Так говорит эстет, сноб, изысканный какой-нибудь композитор, когда ему заявляют, что произведение его не дойдет до массы. Он улыбается при этом с презрением, и видно, что ему хочется сказать: „Ну что ж, мне жалко массу, если она не понимает того, что так ясно и понятно мне, вековому и умудренному“.
Это ложь, обман. Это нищета, влезающая в гигантскую одежду мастеров прошлого. Не верьте им.
Я сам такой! Я заявляю это со стыдом и отвращением. Мне тоже хочется улыбнуться с презрением, когда мне сообщают, что мое произведение непонятно. Я недавно прочел в одном журнале отчет о литературной беседе, которую вели крестьяне-коммунары в коммуне „Майское утро“ на тему о моей повести „Зависть“. Я смеялся, читая их суждения. Ужасно как смешно! Ничего не понимают! Ну, разве это сериозная критика? Вот чудаки! Дети! Ах, ну как они смеют судить? Ведь меня хвалила критика! В толстых журналах меня хвалили! Я умудренный, вековой…
Я очень веселился. И многие веселились вместе со мной. Но вдруг для меня стало ясно: коммунары совершенно правы…» [16]

Неуверенность в собственной правоте. Стремление слиться с массой, уверенными людьми, исповедующими «передовые идеи» эпохи, — и смутное, не столько рационально осмысленное, сколько, быть может, интуитивное отталкивание от них. Двойственное чувство изгойства — и избранности. Проницательный критик ухватывал эту характерную черту субъективного самоощущения интеллигента: он находится «между саморазоблачением — и самовозвеличиванием» [17].
Та же мучительная раздвоенность миросозерцания и у Мейерхольда: по замечательно точной формуле исследователя, Мейерхольд находится «между призванием пророка, обольщающим государственным предназначением агитатора революционных масс, и положением жертвы» [18].
В 1930 году Мейерхольду 56 лет. Он умеет слишком много. Много понимает, помнит, — что, скорее, мешает, чем облегчает и жизнь вообще, и работу в профессии в частности. Иллюзии сияющего коммунистического будущего не изжиты — но все нарастают сомнения в верности трансформаций, идущих в стране.
Публика, недавно заполнявшая зал ГосТИМа, будто «отплывает» от него, расстояние между режиссером и зрителем все ширится, вырастая в пропасть. Мейерхольд пытается выстроить отношения с новым зрителем нового времени, но, по-видимому, это ему не удается.
Еще осенью 1928 года А. И. Свидерский, выступая с докладом на Пленуме ЦК Всерабис, говорил: «Положение в театре Мейерхольда следующее: театр, как это опубликовано в правительственном постановлении, является убыточным, и это все должны знать. Кассовая его посещаемость упала до 40 %, а в перспективе будет 35 % и ниже, посещаемость вообще по отношению к емкости театра 73 %. <…> Из этих цифр можно сделать ясный вывод, отвечает ли этот театр настроению рабочего населения? Не отвечает. Это не только кризис хозяйства театра, <…> но это кризис идеологический. Никто не пытался встать на путь анализа этих цифр, которые имеют громадное идеологическое значение. В то время, как в старых театрах 100 % посещаемости, в театре им. Мейерхольда посещаемость падает» [19].