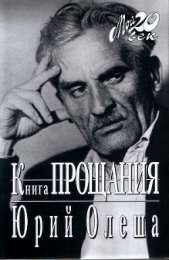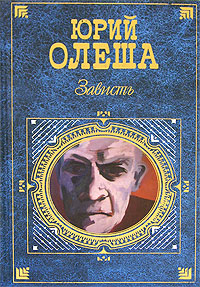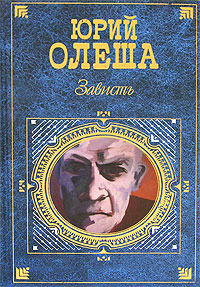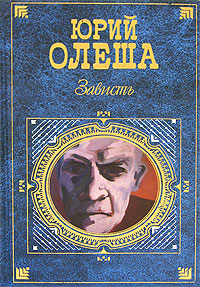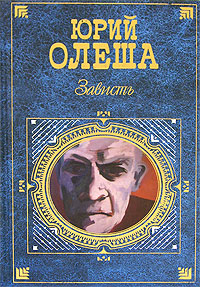Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем "Список благодеяний "

Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем "Список благодеяний " читать книгу онлайн
Работа над пьесой и спектаклем Список благодеяний Ю. Олеши и Вс. Мейерхольда пришлась на годы великого перелома (1929–1931). В книге рассказана история замысла Олеши и многочисленные цензурные приключения вещи, в результате которых смысл пьесы существенно изменился. Важнейшую часть книги составляют обнаруженные в архиве Олеши черновые варианты и ранняя редакция Списка (первоначально Исповедь ), а также уникальные материалы архива Мейерхольда, дающие возможность оценить новаторство его режиссерской технологии. Публикуются также стенограммы общественных диспутов вокруг Списка благодеяний, накал которых сравним со спорами в связи с Днями Турбиных М. А. Булгакова во МХАТе. Совместная работа двух замечательных художников позволяет автору коснуться ряда центральных мировоззренческих вопросов российской интеллигенции на рубеже эпох.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Таким образом, Мейерхольд и Олеша подозревали Б. Ромашова в краже идеи «Списка» совершенно напрасно, т. к. концепция «Смены героев» полярным образом расходилась с тем, о чем говорил «Список благодеяний». Осторожно защищающая режиссера и драматурга формулировка темы спектакля исходит от безусловного сторонника Мейерхольда, А. Февральского: «<…> тема пьесы не является одной из основных тем сегодняшнего дня; переживания героини близки лишь небольшому кругу людей; зато образ Елены Гончаровой является логическим завершением ряда типов русских интеллигентов (из которых два — Чацкий и Оконный — были даны и в постановках Мейерхольда) — это увеличивает ее общественно-культурную ценность. Пьеса с полной ясностью доказывает, что русская интеллигенция не имеет никаких оснований для того, чтобы претендовать на руководство народом, колоссально выросшим в политическом и культурном отношении за годы революции…» — пишет А. Февральский [626]. И добавляет, что тема спектакля — «крах индивидуализма».
Важно, что критике смысл спектакля видится много шире, нежели рассказ о судьбе одной, пусть даже гениальной, но просто взбалмошной актрисы. «Для театра Мейерхольда тема Чаплина, тема маленького человека не случайна. „Мандат“, „Клоп“, „Баня“, неосуществленное желание поставить эрдмановских „Самоубийц“ (так. — В.Г.) и, наконец, „Список благодеяний“ — это одна линия. Правда, до сих пор театр показывал маленьких людей сатирически. Но осмеивал он, по большей части, людей выдуманных, схематически, плакатно представленных, условных. Сейчас же в руках театра оказался трагедийный материал», — констатирует критик и приходит к выводу, что в результате «мелкобуржуазная, иллюзорная „общепонятная демократическая тема“ остается победительницей в „Списке благодеяний“» [627].
Парадоксальным образом спектакль Мейерхольда, где в центр была поставлена фигура бесспорной индивидуалистки, что называется, «аристократки духа», расценен как работа, в которой побеждает «демократическая тема». То, что автор формулы отмежевывается отданной формулы предостерегающими кавычками, дела не меняет.
Итак, какие темы занимают общественность в месяцы подготовки и выпуска спектакля? И какие именно идеи, настроения маркируются критикой как «интеллигентские» (и осуждаются)?
Пусть и в иронической форме, но достаточно внятно критика объясняет смятение «книжной» интеллигенции, лицом к лицу встретившейся с последствиями реализованной наделе «великой утопии»:
«Социализм пришел — интеллигент скептически и недоуменно озирается: вместо сен-симоновского царства аристократов разума — культурная революция в СССР, вместо кооперации Оуэна — производственная смычка рабочего класса и колхозного крестьянства, вместо фурьеристских антильвов и антитигров — совхозы Скотовода и Свиновода. <…>.
И, наконец, где же оно — обещанное искусство социализма?» [628]
Проблемы, поставленные пьесой Ю. Олеши и спектаклем Вс. Мейерхольда: интеллигенция и революция… и власть… и народ.

О проблеме интеллигенции в середине 1920-х годов спорили не меньше, нежели сегодня. В 1925 году прошел специальный диспут (и выступления были собраны в брошюре «Судьбы современной интеллигенции»). Позиции спорящих формулировались ясно. Н. И. Бухарин считал интеллигенцию «особым классом». А. В. Луначарский, напротив, полагал, что «интеллигенция — не класс <…> Это довольно пестрая, сложная, своеобразная группа людей <…> Мы имеем интеллигенцию пролетарскую, капиталистическую <…>, мелкобуржуазную <…> и интеллектуальный пролетариат…» Близкой к нему была позиция В. П. Полонского, стоящего на той точке зрения, что каждый класс имеет свою интеллигенцию [629]. А Михаил Булгаков в известном письме к Правительству от 28 марта 1930 года, не вдаваясь в детали, оценивал русскую интеллигенцию как «лучший слой в нашей стране» [630].
Дефиниции имели отнюдь не академический интерес и последствия. От того, какая из них будет признана верной, зависели человеческие жизни.
Сам Олеша, предваряя публикацию отрывка из «Списка», признавался: «Взгляд мой на положение интеллигенции крайне мрачен. Надо раз навсегда сказать следующее: пролетариату совершенно не нужно то, что мы называем интеллигентностью. Интеллигентностью в смысле достижения высот вкуса, понимания искусства, оттенков мыслей, недомолвок, душевных перемигиваний с равными себе. Ничего общего нет у пролетариата с так называемой нашей тонкостью. Это все — барское» [631].
Критикой тех лет была отчетливо увидена связь умонастроений Мейерхольда и Олеши с комплексом идей революционного народничества, ко времени рубежа от 1920-х к 1930-м уже безнадежно устаревших. Но именно эти идеи — просвещения народа, заботы о нем, связанные с обязательным культуртрегерством, долгом интеллигенции по отношению к темной массе — оставались вполне действенными в сознании многих известных личностей, родившихся в конце века. Не случайно Л. Д. Троцкий метко определял попутничество как «советское народничество». (Ср. с точкой зрения современного человека: «XIX век нам не поучение. В XIX веке существовала идея народа. Идея справедливости, которой можно каким-то путем добиться. В XX веке идея народа как носителя некоей правды просто инфантильна» [632].)
В существенных содержательных вещах пьесу и спектакль критика разделяла не всегда. А российскую пролетарскую революцию в некоторых печатных откликах могли назвать и «социальной катастрофой».
«„Список благодеяний“ — каталог оговорок и оглядок, воскрешающий давно отмершую „концепцию“ о жертвенном, особо предначертанном пути российской интеллигенции, идущей в своем развитии имманентными путями, сооружающей для себя самой трагические голгофы, и прочая, и прочая. <…>.
Никто не собирается отрицать того общепонятного факта, что социальная катастрофа, произошедшая на территории бывшей Российской империи четырнадцать лет назад, чрезвычайно болезненно встряхнула именно интеллигенцию, мнившую себя интеллектуальным авангардом „широких трудовых масс“, а на самом деле оказавшуюся глашатаем отечественной мелкой буржуазии. <…> Актриса Гончарова, перепевающая в переложении на женский голос зады предвоенной растерянной суматошной идеологии неприкаянности, — от чьего лица говорит она в 1931 году?» [633] — спрашивал критик.
Мысль подхватывал О. Литовский: «Можно ли считать актуальной постановку гамлетовского вопроса — быть или не быть — перед пролетарским нашим зрителем, взволнованным и живущим героическими днями социалистического строительства? Разумеется, в наши дни ударничества, социалистического соревнования, в наши дни романтики бетонных замесов, пафоса рекордов кирпичной кладки, формирования, в условиях новых форм и методов труда, нового, социалистического человека тема о принимающем или не принимающем революцию интеллигенте звучит одиноко и резонанс ее узок» [634].
Но порой пишущий в неуклюжей фразе нечаянно проговаривался об истинном значении пьесы и спектакля. Рассуждая о «серьезных ошибках» создателей «Списка», перечисляя их (сужение тематики, замыкание в мире настроений и колебаний узкого круга интеллигентских типов), рецензент неожиданно приходил к выводу, что «неправильная постановка вопроса об интеллигенции» связана с тем, что «автор, взяв исключительно нетипичный случай, не характерный для сегодняшнего дня, поднялся, как всякий большой художник, до широкого обобщения» [635].