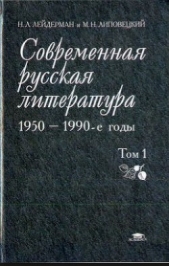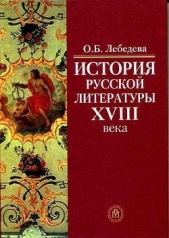История русской литературы XIX века. В трех частях. Часть 1 1800-1830-е годы

История русской литературы XIX века. В трех частях. Часть 1 1800-1830-е годы читать книгу онлайн
Рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032900 (050301) – «русский язык и литература». В учебнике даются современные подходы в освещении основных этапов историко-литературного процесса.
В соответствии с новыми данными филологической науки пересматривается традиционная периодизация историко-литературного развития, расширяется и уточняется представление о ренессансной природе русского реализма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эти строки толковались, как выражение «гордой независимости поэта от мнений и притязаний „толпы“, от традиционных верований и представлений».
Однако стоит только осмыслить каждое слово, отобранное в эту пушкинскую строфу, чтобы оценить ее содержательность. Ведь под житейским мы понимаем обыденное, бытовое, повседневное, суетное. Но суетность, суета в понятиях нашего языка это ничтожность, бесполезность, бестолковость, беспорядочность. Суетный – это напрасный, пустой, вздорный, глупый, плотски-земной, безумный. Расширив таким образом спектр предметных смыслов слова «житейский», скрытый от поверхностного взгляда, мы уже по-иному поймем Пушкина и, если поверим ему, глубже осознаем и употребленное им слово.
Для восприятия большинства русских людей пушкинской эпохи, для соприродного ему православного сознания «житейское волненье», суета – это прелесть, «обман князя тьмы», безумие, ложное и тленное, удаляющее от духовной жизни, от Бога. Согласно православным представлениям, «Господь удаляется от человека, живущего в суете». «Житейское волненье» не соответствует высокому званию христианина, ибо приводит к забвению Вечности.
Слово «волненье» тоже требует осмысления. Это состояние возбуждения, пылкость, вожделение, беспорядочная смена и несдержанность чувств и впечатлений, жизненные, суетные треволнения, наконец, открытое выражение недовольства, негодования, бунт и прочее. Все это вполне укладывается в понятие «страсти», которые православная культурная традиция рассматривает как «внутренние идолы в сердце человека», как злые помыслы, делающие человека своим рабом и рабом греха. В этом смысле страсти противостоят свободной человеческой жизни. Ибо жизнь, достойная человека, всегда непринужденное утверждение собственно человеческих свойств и достоинств, то есть духовных начал…
Так историко-культурный подход к приведенному четверостишию позволяет уразуметь его смысл: человек рожден не для безумия, не для ничтожной земной бестолковости и суетности, не для безбожного следования греху, но для чего-то иного, Высшего, значительного, определяющего его жизнь и оправдывающего его существование. Разве не истинна эта простая мысль, коли мы представляем человека не как биосоциальный субъект, но как понимал его Пушкин: как духовную личность, имеющую „образ и подобие Божие“?»
Чтобы разобраться в существе поэтической позиции Пушкина, которая с декларации михайловского периода «Разговор книгопродавца с поэтом» оставалась неизменной до конца творческого пути (в «Памятнике», созданном за несколько месяцев до гибели Пушкина, она такая же, как и в стихах 1824 года), чтобы показать, что между разными, как будто противоположными высказываниями поэта на самом деле нет никакого противоречия, нужно обратить внимание, по крайней мере, еще на два существенных обстоятельства.
Первое заключается в том, что на Пушкина как создателя новой русской литературы возлагалась особая миссия утверждения в общественном мнении суверенного значения поэзии в ряду других форм общественного сознания (философии, политики, публицистики, нравственной проповеди и т. п.). По справедливым словам Белинского, Пушкин был «первым русским поэтом-художником». И ему важно было показать независимость поэзии, ее самостоятельность и самоценность:
(«Поэту»)
Пушкину нужно было научить своего читателя не путать литературу с рифмованной проповедью, не отождествлять искусство мышления образами с рифмованным публицистическим трактатом. И сделать этот переворот в сознании публики, воспитанной на образцах младенчески незрелой литературы XVIII века, было непросто. Требовалась особая страстность, огненный поэтический напор, бьющий по самолюбию современников, развенчивающий примитивный взгляд на искусство у действительно еще «не просвещенного» на этот счет, глубоко заблуждающегося народа:
(«Поэт и толпа»)
Второе обстоятельство связано с пониманием самой суверенности поэзии: в чем она заключается, в чем ее смысл и назначение? Пушкин, подобно летописцу Пимену, видит в поэзии дар, «завещанный от Бога». Он считает, что поэт служит не себе, а этому, не вполне ему принадлежащему дару. В этом смысле поэт напоминает библейского пророка. В стихотворении «Пророк» Пушкин дает поэтическую вариацию на тему шестой главы библейской «Книги пророка Исайи»: «И сказал я: горе мне! погиб я! ибо человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, – и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите – и не уразумеете, и очами смотреть будете – и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб Я исцелил их».
В пушкинском «Пророке» над томимым духовною жаждою смертным как бы завершается до конца та операция, которую Господь обещал людям, если они к Нему обратятся. Сначала серафим обновляет зрение и слух, совершая это легко и безболезненно – как веяние невидимой и неслышимой благодати:
Всё это качества, нужные прежде всего поэту, который, в отличие от святого, погружающегося во «внутреннее зрение», постигает тайну богоприсутствия через красоту Божьего творения. Именно поэт должен обладать более острым слухом и более острым зрением. Но затем посланник Бога совершает еще две акции над смертным человеком, столь же необходимые для поэта: утончение дара речи и обострение сердечных чувств. Смена языка и сердца изображается как мучительная и кровавая операция, требующая от человека максимального напряжения сил:
Уже не легкие как сон персты, а кровавая десница вершит это преображение. Использование церковнославянизмов (персты, зеницы, очи, уста, десница), тонкая имитация библейского синтаксиса (односложные, емкие обороты, нанизывающиеся, как бусы на нитку, с помощью повторяющегося союза «и») – все это придает стихам торжественность и возвышенность. Мы присутствуем при свершении великого таинства преображения человека: