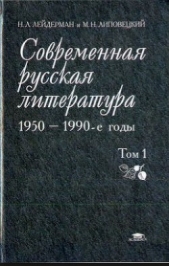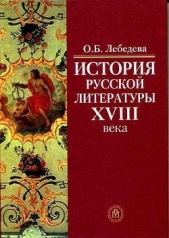История русской литературы XIX века. В трех частях. Часть 1 1800-1830-е годы

История русской литературы XIX века. В трех частях. Часть 1 1800-1830-е годы читать книгу онлайн
Рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032900 (050301) – «русский язык и литература». В учебнике даются современные подходы в освещении основных этапов историко-литературного процесса.
В соответствии с новыми данными филологической науки пересматривается традиционная периодизация историко-литературного развития, расширяется и уточняется представление о ренессансной природе русского реализма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эта высшая Сила дважды приоткрывается людям, ослепленным мирскими грехами, в двух ключевых сценах трагедии: «Ночь. Келья в Чудовом монастыре» и «Площадь перед собором в Москве». Проводниками этой высшей Силы являются люди, отрешенные от мирских помыслов и не принимающие участия в событиях. Никаких корыстных интересов у них нет. Ничто в этом мире их не держит и не связывает. В меру их внутренней чистоты и бескорыстия им и открывается смысл Божьей правды, который сокрыт от других героев. В первой сцене это летописец-монах Пимен, во второй – блаженный юродивый Николка.
В устах Пимена звучит обвинение людям в их грехах и пророческое предсказание неминуемой расплаты:
Когда действие приближается к кульминации, юродивый Николка на соборной площади говорит в лицо Борису: «Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода – Богородица не велит». Вслед за этим приговором – внезапная смерть Бориса, ведущая действие к финалу. Пушкин показывает провиденциальный характер этого возмездия. По какому-то как бы случайному стечению обстоятельств Божьей каре, ниспосланной Борису Годунову, предшествует столкновение юродивого, «взрослого ребенка», с мальчишками. Это, по сути, еще и кульминация «детской» темы, проходящей через всю трагедию. Она начинается с убийства Димитрия, о котором рассказывают бояре. Потом, в момент уговоров Бориса на царствование, ребенок на руках у бабы плачет, «когда не надо», и не плачет, «когда надо» (вспомним евангельские слова Христа о младенцах, которым открыта высшая истина). Затем в доме Шуйского мальчик читает вслух молитву о здравии… царя-детоубийцы. Появляются дети Бориса Годунова Феодор и Ксения. У Ксении неожиданно и странно умер юный жених ее – предвестие чего-то недоброго. Да и сам Борис в тревожной любви к своим детям будто боится потерять их, предчувствует скорую разлуку, надвигающуюся беду («мальчики кровавые в глазах»). В финальной сцене мужик кричит в исступлении: «Вязать Борисова щенка!» Но чей-то голос из толпы произносит: «Бедные дети, что пташки в клетке».
В причинно-следственных связях событий трагедии детские эпизоды выглядят случайными: никто тут ничего специально не подстраивает, никаких интриг не плетет. Но, случайные на уровне человеческого понимания, эти эпизоды закономерны ввиду той высшей справедливости, которая является хотя и не видимым, но самым главным действующим лицом трагедии – Силой, которая управляет всем.
В осмыслении правды истории, в понимании происходящих событий человек нередко сталкивается, по Пушкину, с фактами необъяснимыми, кажущимися ему случайными, не имеющими никаких логических оснований. И человек склонен отказывать им в праве на существование. Пушкин нас предупреждает: «Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астрономом и события в жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но Провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая – мощного, мгновенного орудия Провидения».
В трагедии грешен не только Борис. Грешен и народ: его судьба в чем-то перекликается с судьбою Бориса. Посмотрим на поведение народа в экспозиции и в финале трагедии. В экспозиции: Народ молчит.
Его побуждают умолять Бориса быть царем. Народ кричит: «Ах, смилуйся, отец наш, властвуй нами». В финале: Народ кричит: «Да гибнет род Бориса Годунова!» Его побуждают приветствовать приход на царство Димитрия-самозванца. «Народ безмолвствует».
В финале все, как в экспозиции, но только в обратном порядке. Грех народа заключается в избрании Бориса на царство, в том, что он «молился за царя Ирода». Поэтому в убийстве Феодора, в нашествии чужеземцев, в грядущей смуте повинен не только Борис, но и народ.
В ходе действия Борис склонен упрекать народ в неблагодарности, в строптивости, не замечая, что эти упреки являются в известной мере самооправданием, стремлением заглушить в себе чувство совести. Но и народ, упрекая Бориса во всех бедах, снимает с себя грех, бремя тяжелой ответственности за свое попустительство. И Борис, и народ глухи к высшему голосу правды. Этот голос слышат чистые души Пимена и юродивого Николки – именно в них пробивается к свету народная совесть, и только к ним можно отнести известный афоризм: «Глас народа – глас Божий». Что же касается основной массы народа, как бы объединяющейся у Пушкина в собирательное Лицо, то ее «глас», ее «мнение» помрачены грехом. Только в финале трагедии, в многозначительной ремарке – «Народ безмолвствует» – видится обнадеживающий знак пробуждения народной совести.
Обращаясь к опыту Шекспира, Пушкин пошел дальше великого предшественника, у которого главный интерес состоит в деятельности частных исторических лиц. Обладая свободой воли, они совершают свой выбор и несут расплату за него, слыша голос совести или ощущая противодействия других лиц, выполняющих карающие функции. Драматургическая система Шекспира «антропоцентрична»: в центре ее стоит «ренессансный», предоставленный самому себе человек. Голос совести в нем все более и более затухает. И цепочка событий почти целиком подчиняется логике «человеческих», психологически мотивированных причинно-следственных связей. Мир Идеала, свет высшей Божественной истины слабо мерцает здесь перед лицом земных обстоятельств, очень далеких от Идеала. Вот почему Пушкин говорил, что, когда он читал Шекспира, ему казалось, что он «смотрит в ужасную, мрачную пропасть».
Пушкин, следуя Карамзину «в самом развитии происшествий», возвращает трагедии утраченную в эпоху Возрождения Истину Божественного идеала, Божественной воли, стоящей над человеком и человечеством. В диалоге человека с миром у Пушкина возникает третье Лицо, этот диалог невидимо корректирующее и направляющее.
Царь Борис мнит себя творцом истории, полновластным хозяином своей судьбы. «Он думает, – пишет В. С. Непомнящий, – что решающую роль в опыте „быстротекущей жизни“ играют „науки“; он думает, что история делается только руками и головой, что природа ее только материальна. Думать иначе может, по его мнению, только „безумец“. Кто на меня? Пустое имя, тень -
Но он ошибся. Произошло как раз то, чего он „испугался“ – испугался прежде рассудка, непосредственно, глубиной духа. Имя обрушилось на него, тень сорвала с него порфиру, звук лишил наследства его детей, и призрак его погубил». Так реализм Пушкина начинал обретать трезвую религиозную первооснову, в ядре которой уже заключался будущий Толстой, будущий Достоевский. «Формула» этого реализма не укладывалась в «формулу» реализма западноевропейского, сделавшего акцент на свободном, самодостаточном, суверенном человеке – пленнике своих земных несовершенств.
Далеко не случайно, что Пушкин оценивал трагедию «Борис Годунов» едва ли не выше всего им созданного. В момент завершения своего труда он радовался как ребенок: «Трагедия моя кончена: я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши, и кричал, ай да Пушкин, ай да сукин сын!» В этой трагедии Пушкин вышел на новую дорогу в своем искусстве. Пытаясь дать себе отчет в этом, в одном из набросков предисловия к «Борису Годунову» он писал: «Отказавшись добровольно от выгод, мне представляемых системою искусства, оправданной опытами, утвержденной привычкою, я старался заменить сей чувствительный недостаток верным изображением лиц, времени, развитием исторических характеров и событий – словом, написал трагедию истинно романтическую» (курсив мой. – Ю. Л.). Термина «реализм» в ту пору еще не существовало. Вместо него Белинский вскоре введет в свои критические статьи понятие поэзия действительности. Пушкин же аналогичное понятие определяет как истинный романтизм, то есть реализм.