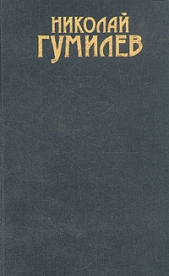«Стихи мои! Свидетели живые...»: Три века русской поэзии

«Стихи мои! Свидетели живые...»: Три века русской поэзии читать книгу онлайн
Это не история русской поэзии за три века её существования, а аналитические очерки, посвящённые различным аспектам стихотворства — мотивам и образам, поэтическому слову и стихотворным размерам (тема осени, образы Золушки и ласточки, качелей и новогодней ёлки; сравнительный анализ поэтических текстов).
Данная книга, собранная из статей и эссе, публиковавшихся в разных изданиях (российских, израильских, американских, казахстанских) в течение тридцати лет, является своего рода продолжением двух предыдущих сборников «Анализ поэзии и поэзия анализа» (Алматы, 1997) и «От слова — к мысли и чувству» (Алматы, 2008). Она предназначена как для преподавателей и студентов — филологов, так и для вдумчивых читателей — любителей поэзии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Начинающий стихотворец рвался в большую литературу, но мешали провинция, работа, аспирантура, кандидатская диссертация, необходимость кормить семью: «О, великий, могучий, помоги прокормить мне жену и ребёнка». В начале 90-х годов появились его первые публикации — сперва на Урале, позже в Москве и Петербурге, он познакомился и стал общаться с известными поэтами — А. Кушнером и Е. Рейном, Е. Евтушенко и С. Гандлевским (первых двух он выбрал в наставники), участвовал в поэтическом фестивале в Голландии. Казалось бы, Борис многого добился, но удовлетворения не было. Его мучали сомнения в собственном таланте: «Была надежда на гениальность и сплыла», «Свой талант ценю в копейку, / хоть и верую в него», «Моя песенка спета, / не вышло из меня поэта». К этому добавились алкогольная зависимость («Зелёный змий мне преградил дорогу»), переутомление и усталость от житейских нагрузок и забот, депрессия. Трудно сказать, что послужило последней каплей. Слишком часто он представлял, как умирали другие писатели (Л. Толстой, А. Полежаев, Я. Полонский, А. Блок), воображал, как сам он войдёт «в пределы мрака» и с кем там встретится, ставил себя на место Лермонтова: «Артериальной тёплой кровью / я захлебнусь под Машуком». И в лермонтовском возрасте — в 27 лет — поставил точку в своей жизни.
Наверное, Рыжий помнил песню В. Высоцкого о фатальных датах в биографиях русских поэтов:
Но есенинской даты — 30-летия — Борис не стал дожидаться.
Прошло более 10 лет со дня самоубийства Б. Рыжего, и некоторые критики объявляют его чуть ли не «Пушкиным современной поэзии». Но, конечно, это явное преувеличение: он не успел вырасти в большого поэта. И сам себя не без грусти сознавал «приёмным, но любящим сыном поэзии русской». А ведь как ему хотелось быть своим среди чужих и сочинить «разухабистую песню», которую пели бы русские люди. Может быть, с годами он преодолел бы эту болезненную раздвоенность, как это почти удалось Пастернаку. А может, Борис Рыжий пришёл бы к горькому признанию и отповеди, которые произнёс его старший современник, русско-еврейский поэт Риталий Заславский:
Любопытно, что и Борис Рыжий как-то назвал себя «русскоязычным поэтом», живущим в Свердловске.
2012
Человек «двойного сознания»
(Давид Самойлов)
«Людьми двойного сознания» назвал Давид Самойлов русских евреев, которые разрываются между Россией и Европой, между христианством и иудаизмом. О своих родственниках он говорил, что они рассеяны по всему свету — в Польше и Литве, Германии, Франции и Америке. А о своём отце, Самуиле Кауфмане, рассказывал, что он не был религиозен, но чтил традиции и уважал любую веру, однако выкрестов не терпел. В их семье отмечали и Пасху, и Судный день, хотя дед веровал в иудейского Б-га и каждое утро молился на иврите, знал при этом семь языков и до 80 лет давал частные уроки. И его сын был убеждён, что главная обязанность человека — делать своё дело честно и самоотверженно, и сам был отличным врачом. Он не ощущал себя ущемлённым и обиженным, считая, что в российском государстве должны править русские. Не отказывался от своего еврейства и Давид, но по требованию редакторов и издателей вынужден был взять себе псевдоним, образовав его от имени отца.
В своих мемуарах «Памятные записки» Самойлов опишет этапы растворения евреев в русской нации. Вначале они жили в черте оседлости, погружённые в быт и деторождение, и духовной опорой их была вера в Б-га и чадолюбие. Никакого значительного вклада в мировую культуру они не внесли. Появление «еврейского элемента» в русской нации мемуарист связывает с кантонистами, которым после военной службы разрешили селиться в российских городах, и с выкрестами, получившими гражданские права (Левитан, Рубинштейны, Антокольский, позже Пастернак и Мандельштам). Вторая волна русского еврейства — это интеллигенция, партийные функционеры и красные командиры в период революции. Для первых во главе угла стояло понятие об обязанностях перед культурой, для вторых и третьих — требование прав и необходимость разрушения старого мира и социальных преобразований. А их дети и внуки испытывают чувство исторической вины и готовы к ассимиляции, вплоть до принятия православия. И Самойлов полагает, что им уже не вернуться в синагогу, но и в церковь спешить не следует. Сам же он не следовал никакой религии, и его редкие упоминания о Боге скорее всего традиционные формулы («Господь меня помилуй, / Господь меня прости»). Возможно, ему, как и его отцу, «терпимость христианства была ближе сурового Б-га иудеев», тем не менее он был против поспешного крещения как признака неуверенности в себе и недостатка собственного достоинства.
По убеждению Д. Самойлова, после Второй мировой войны русские евреи перестали быть нацией, утратив свою территорию, свой язык и культуру, и стали органичным элементом русской нации и «ветвью русской интеллигенции в одном из наиболее бескорыстных её вариантов, ибо в том, чтобы быть русским евреем корысти нет». Кстати, и в существование русского сионизма он тоже не верил. Дожив до начала Большой Алии (умер в 1990 г.), он не поверил и в исход евреев из России, думая, что еврейская интеллигенция не уедет в Израиль. Ведь и он сам принадлежал к ней, считал себя частью русской нации и гордился званием русского поэта: «Мне выпало счастье быть русским поэтом». И всё-таки в этом счастье была горчинка: «Ушёл от иудеев, но не стал / За то милее россиянам, / По-иудейски трезвым быть устал / И по-российски пьяным» (из письма к Л. Чуковской в 1981 г.) и «Если меня, русского поэта и русского человека, погонят в газовую камеру, я буду повторять: «Шма исроэль <…> — единственное, что я запомнил из своего еврейства» (в дневнике за два года до смерти).
А присутствует ли еврейская тема в самойловской поэзии? По утверждению А. Солженицына в его статье о поэте, она полностью отсутствует. Однако это не так. Первая попытка затронуть эту тему была сделана начинающим стихотворцем в конце 40-х годов в поэме «Соломончик Портной», которая оказалась неудачной. В дальнейшем несколько произведений, посвящённых еврейству, не включались автором в его сборники, в том числе в последний прижизненный двухтомник (1989). В одном из них речь шла о девочке, чудом спасшейся во время расстрела евреев фашистами («Девочка»), в другом — об антисемитах-хулиганах в писательской среде («Канделябры»), в третьем — о судьбе еврейского народа.