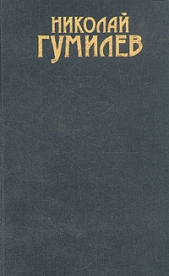«Стихи мои! Свидетели живые...»: Три века русской поэзии

«Стихи мои! Свидетели живые...»: Три века русской поэзии читать книгу онлайн
Это не история русской поэзии за три века её существования, а аналитические очерки, посвящённые различным аспектам стихотворства — мотивам и образам, поэтическому слову и стихотворным размерам (тема осени, образы Золушки и ласточки, качелей и новогодней ёлки; сравнительный анализ поэтических текстов).
Данная книга, собранная из статей и эссе, публиковавшихся в разных изданиях (российских, израильских, американских, казахстанских) в течение тридцати лет, является своего рода продолжением двух предыдущих сборников «Анализ поэзии и поэзия анализа» (Алматы, 1997) и «От слова — к мысли и чувству» (Алматы, 2008). Она предназначена как для преподавателей и студентов — филологов, так и для вдумчивых читателей — любителей поэзии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы замечаем, что в цикле поэт, как и правда, меняет свои обличья, выступает в разных ипостасях и примеряет на себя различные роли — виноградная лоза и овечка, служанка и зазывала. А в 11-м стихотворении «Кукловод» лирическая героиня дергает за нити молящихся кукол, которые оборачиваются поэтическими строками. И благодаря им она «заглушает боль, печаль избывает». Поэтому ей легче живётся, чем остальным людям, и ей далеко до пророка, который страдает за весь народ, а его «камнями побивают» (см. лермонтовского «Пророка»). Она же просит прощения «за остывшие угли молитв» (ср. у Пушкина «угль, пылающий огнём»). Однако куклы-строки всегда молятся «за вас».
Прося прощение у людей, автор не ощущает себя ни властителем дум, ни властителем слов («Что взять с кукловода?»), развивая этот мотив в 12-м стихотворении «Имена» («Но какой с меня спрос?»). Она преклоняется перед Словом, ибо «каждое слово что имя Божье» и с опаской, нерешительно произносит и пишет слова. Перечисляя с десяток «земных имён», наречённых Творцом (морей, земель и племён, деревьев и птиц, калик, поэтов и пророков), поэтесса не решается пользоваться этим «имён избытком» и считает свою жизнь эфемерной перед ликом Господа.
После столь горестного признания (ср. с пушкинским «свитком» жизни, который развёртывает воспоминание, и поэт с «отвращением» читает свою жизнь) приходит пора прощаться с Содомом — древним и современным. Если во втором стихотворении мы встретились у содомских ворот, и память обожгла душу, то в 13-м («Вдали от Содома») мы расстаёмся с Содомом и с памятью о нём.
В этой новой эпохе (на дворе 2001 г.) и в новом пейзаже лавр (аллегория славы) соседствует с заходящим солнцем (старостью), которое оставляет на героине неповторимое «родимое пятно», похожее то ли на штемпель на письме, то ли на пломбу на вагоне, то ли на тавро для скота. Но всё равно хочется быть чем-то или кем-то и в самой безысходности отыскать исход. А вдруг он там, где был в самом начале (исход евреев из Египта), в той стране, где случился Содом и где «мирру с тёрном повенчали»? И в действительности поэтесса оказывается в Израиле (там живёт её дочь), но не хочет находиться там, где спасся лишь один Лот и где распяли Христа. Ей достаточно только окна в мир: «Мне выйти всего-навсего охота / За крестовину этого окна!»
Путешествие «по волнам памяти» завершается в последнем стихотворении («Меж прошлым и грядущим»), подводящим итоги этого странствия. Переживая каждый свой день как первый и последний, «Я» живёт сегодня и сейчас, «меж заутренею и вечерней» (под Божьим присмотром), пока бьётся её «сердце-мотылёк» (пусть слепо!) между ребер, строк и псалмов, т.е. физическое существование неотделимо от духовного и творческого. Сердце «в мир наружный рвётся, будто из оков», хотя «снаружи пламенем ползущим пахнет почва». Так образы огня, пожара, пламени, вплоть до обгоревшего крыла серафима, неспаленной памяти, «остывшего угля молитв» и горящей спички и лампы, пройдя через весь цикл, доходят до финального ползучего пламени. Повторяются и мотивы поэтического творчества (строки, псалмы); «наглядный день» из вступления становится «всяким днём»; глаголы трёх времён «прошло — проходит — грядёт» преобразуются в формулу «меж прошлым и грядущим». Если в начале цикла поэтесса признавалась: «мне страшен вечности произвол», то в конце она сознаёт, что в ней самой дремлют (отсюда «навязчивые сны») отзвуки древности и не прерывается связь времен. Правда,
Таким образом, отталкиваясь от библейского мифа и дополняя его, Инна Лиснянская создаёт в своём цикле воображаемые картины как древнего, так и современного Содома, и последний ей видится греховнее первого.
Однако поэтесса отказывается быть покорной овечкой, обречённой на заклание, и при всей своей вере в Бога спорит с ним о правомерности Его кары, ниспосланной на не такой уж грешный город и на совсем уж не повинную женщину: разве «взгляд назад может стать виной, / А одна слеза стелою стать из соли»?
2013
«Если бы…» — версии в вариации в поэзии Дмитрия Быкова
Для литературы постмодернизма характерны переосмысление и пересмотр классических традиций. Это и обыгрывание известных цитат и сентенций или знакомых сюжетов. Это и варьирование исторических событий и судеб знаменитых людей.
Большим любителем таких игр выступает в своём творчестве — и в прозе, и в стихах — Дмитрий Быков. Так, свою книгу «Последнее время. Стихи. Поэмы. Баллады» (М.. 2006) он предваряет стихотворением-эпиграфом «Арион», в котором, опираясь на пушкинский первоисточник, предлагает иронический вариант спасения певца в наши дни: «очухался» он в Крыму, услышал призыв Аквилона проснуться и петь, ибо поэт резонирует «с любой напастью: буря, бунт, разлука», но хочет сначала подлечиться — «Поправлюсь, выпью все кокосы / И плот построю к сентябрю».
Три первых раздела сборника начинаются «Вариациями». В первой из них «смутная душа» ребёнка выбирает: быть или не быть? Она предчувствует «грядущие обиды и раны», разглядывает на киноэкране безликие тела, представляя их возможные воплощения; а в школьные годы ей может присниться менделеевская таблица («Вариация-1», 1995, 2001). Во второй вариации творится сказка о домашней кошке, «выгнанной на мороз», в сопоставлении с собственной долей в «бараке чумном» («Вариация-2», 1994, 1998). В третьей — сравниваются поэт-романтик, «ратоборец, рыцарь, первопроходец» и сегодняшний «Орфей — две тыщи», хитрец, раб и гад, текучий, как вода или ртуть, клеймённый презреньем и позором, «непростой продукт своей эпохи» и «заложник чужой вины», которому суждено испытать «пожизненную пытку» — «меж раскалённым Джезказганом и выжженной Карагандой» («Вариация-3», 1999). Возможно, Быков отталкивался от пастернаковских «Вариаций», показывая, какие кошмары и муки, какая деградация ожидают романтического певца, поэзия которого, по Пастернаку, была равновелика самой природе — «свободная стихия стиха» и природная стихия, черновик пушкинского «Пророка» и рассвет над Гангом («Вариации (1 — 6)», 1918).
Уже заглавия и зачины стихотворных произведений Д. Быкова свидетельствуют об его интересе к жанру фэнтези, к воображаемым ситуациям и предполагаемым обстоятельствам, ко всякого рода предсказаниям: «Фантазия на темы русской классики» и «Версия», «Футурологическое» и «Эсхатологическое», «Приснилась война мировая…» и «Снился мне сон, будто все вы, любимые мною…», «Когда бороться с собой устал покинутый Гумилёв…» и «Намечтал же себе Пастернак…», «Если б молодость знала и старость могла…» и «Чтонибудь следует делать со смертью…».
Простейшим случаем поэтической фантазии является переработка чужих творений. И Быков пишет продолжение крыловской басни «Стрекоза и Муравей»: «Да, подлый муравей, пойду и попляшу <…> / Смотри, уродина, на мой прощальный танец». Такие, как она, не годны к работе и борьбе, умеют лишь просить приюта и гордо «подыхать». Но, оказавшись после смерти в раю, Муравей будет завидовать Стрекозе и просится в её «кружок», а она ответит: «Дружок! Пойди-ка поработай!» («Басня», 2002).