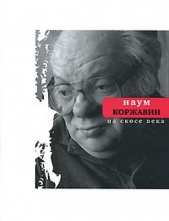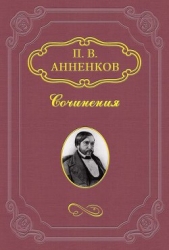От Пушкина до "Пушкинского дома". Очерки исторической поэтики русского романа

От Пушкина до "Пушкинского дома". Очерки исторической поэтики русского романа читать книгу онлайн
Центральная тема книги – судьба романа «сервантесовского типа» в русской литературе XIX—XX веков. Под романом «сервантесовского типа» автор книги понимает созданную Сервантесом в «Дон Кихоте» модель новоевропейского «романа сознания», в том или ином виде эксплуатирующего так называемую «донкихотскую ситуацию». Уже став «памятью жанра» новоевропейского романа, «Дон Кихот» оказался включенным в состав сложных многожанровых конфигураций. Поэтому читатель найдет в книге главы, в которых речь идет также о пикареске (так называемом «плутовском романе»), о барочной аллегорической «эпопее в прозе», о новоевропейской утопии, об эпистолярном романе, немецком «романе воспитания», французском психологическом романе. Модернистский «роман сознания» XX века, представленный на Западе творениями Пруста, Джойса, Кафки, Унамуно, в дореволюционной России – прозой Андрей Белого, в России послереволюционной – антиутопиями Замятина и Платонова, прозой А. Битова, наглядно демонстрирует способность созданного Сервантесом жанра к кардинальным трансформациям.
Книга адресована критикам и литературоведам, всем интересующимся теорией и исторической поэтикой романа, русским романом в западноевропейском литературном контексте.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но у него немало общего с «Персилесом», произведением, без сомнения, не известным Гоголю (русский перевод романа появился только в 1961 году10). Совпадение двух «романов»11 – второго тома «Мертвых душ» и «Персилеса» – не сводится лишь к авантюрному сюжету, каковой в одном случае является рассказом о путешествии двух влюбленных – принца и принцессы – к Риму как центру католического мира, а в другом – повествовании о странствиях Павла Чичикова, человека отнюдь не знатного происхождения, лишенного стабильного социального статуса – по поместной России с целью покупки «мертвых душ», то есть умерших крестьян, еще не зарегистрованных официально в качестве таковых. Впрочем, как романы странствий второй том «Мертвых душ», да и «Персилес», недалеко отстоят от того же «Дон Кихота», от плутовских и рыцарских романов… Важно, что во втором томе путь Чичикова-авантюриста, полупикаро и полудонкихота, полудьявола и полуапостола Павла12, трансформируется в аллегорический поиск героем и читателями «прозаической поэмы» духовного воскрешения, которое Гоголь связывает с самопознанием, с превращением героя из «человека внешнего» в «человека внутреннего». В художественном пространстве поэмы в целом этот поиск воплощается также в сюжете о путешествии к духовному центру мироздания, к мистической «святой Руси».
Конечно, путь Чичикова – вовсе не героическое деяние, но персонаж Гоголя – не просто пикаро, а тот, кто должен проникнуть в мир мертвых душ (его эквивалент – спуск в ад, посещение мира варваров), взлететь на небо на крыльях птицы-тройки и выйти к началу второго тома к свету земного рая. (Нет необходимости здесь говорить о том, что мотивы временной смерти, выхода на свет из мрака нижнего мира присутствуют и в многочисленных эпизодах «Персилеса»).
В противоположность персонажам двух первых книг «Персилеса», плавающим по северным морям от острова к острову, Чичиков – персонаж и первого, и второго томов «поэмы» – перемещается по земле, но образ бушующего моря сопровождает его в странствиях: не раз он сравнивает себя с кораблем, носимым по волнам моря житейского13. Соответственно, дома русских помещиков, которые он посещает, играют в повествовательной структуре «поэмы» Гоголя роль тех же островов («твердой земли»), которые либо принадлежат помещикам-«варварам» («мертвым душам», людям, не просвещенным, не просветленным знанием своего предназначения), либо – уже во втором томе – выступают в функции locus amoenus («земного рая»). Вместе с образом «земного рая» в каждом из анализируемых произведений появляется и мотив идеального государства, разумно управляемого мира: поместье Костанжогло в «Мертвых душах», королевство Поликарпа в «Персилесе» (характерен греческий генезис обоих имен!).
«Земной рай» в «поэме» Гоголя – например, описание поместья Тентетникова – очень похож на аналогичные фрагменты «Персилеса». Как правило, речь идет об изолированном месте, отделенном от остального мира горами или морем, в центре которого находится зеленый луг, по которому протекает река или ручей, в водах коего отражаются купы деревьев разных пород. Это – одновременно и искусственный, и естественный «космос», сотворенный Природой и трудом человека, и замкнутое в своем совершенстве, и открытое пространство, с которого открывается широкая перспектива, нередко – гористая местность (в случае с Гоголем, возвышенность, увенчанная куполами и крестами православного храма: «В одном месте крутой бок возвышений воздымался выше прочих и весь от низу до верху убирался в зелень столпившихся густо дерев. Тут было все вместе… мелькали красные крышки господских строений, коньки и гребни сзади скрывшихся изб и верхняя надстройка господского дома, а над всей этой кучей дерев и крыш старинная церковь возносила свои пять играющих верхушек…» (235). Или же – как в эпизоде посещения группой паломников во главе с Персилесом и Сихизмундой (они уже добрались до Франции14) пещеры отшельника-мага15 Сольдино, – горная долина, путь в которую – символическое нисхождение в недра пещеры, которое оборачивается выходом к «чистому и ясному небу» (378).
Следует, однако, иметь в виду принципиальное различие гоголевской и сервантесовской утопии (как она представлена в «Персилесе»). Эпизод спуска в пещеру Сольдино является самым выразительным и значимым эпизодом «Персилеса», в основе которого лежит топос «земного рая». И хотя у нас нет возможности детально проанализировать этот эпизод, хотелось бы подчеркнуть его преимущественно риторический характер (поэтому романтическое прочтение «Персилеса» и этого фрагмента романа в особенности, на мой взгляд, не вполне адекватно). Речь Сольдино, начиная со слов «Yo levantй aquella ermita…»16, – это прозаический парафраз «Песни об уединенной жизни» («Canciуn de la vida solitaria») Луиса де Леон (а разве имя старца Soldino не является анаграммой имени саламанкского поэта?). И несмотря на упоминание «упорного» труда в речи Сольдино, вся она является восхвалением спокойной и созерцательной жизни, жизни человека, чьи глаза постоянно устремлены к небу (преимущественно ночному). Гоголевский идеал совершенной жизни, напротив, в чем-то ближе лютеранскому – протестантской «этике труда» (М. Вебер). Смысл земного существования человека для Гоголя заключен в неустанном труде, в созидательной деятельности. Самым тяжким грехом для создателя второго тома является не сладострастие (как для Сервантеса в «Персилесе»), а лень, русская абулия. Так что просторы России во втором томе – невзирая на псевдолютеранскую подсветку гоголевской системы нравственных ценностей – напоминают чистилище (ни православными, ни протестантами не признаваемое), населенное душами людей, заразившихся этой тяжкой, но исцелимой болезнью, людей, не способных на поступки, деяния, как бы зачарованных. Персонажи второго тома – не мертвые (души), но души спящие, заколдованные сном. Задача Гоголя-проповедника – разбудить их, призвать к деятельной жизни. Поэтому идеальный правитель (управитель) своего поместного «царства» – Василий Костанжогло (таково его имя в последней версии сохранившихся глав) произносит своего рода прозаическую оду, восхваляющую различные виды занятий и ремесел, связанных с сельским трудом17. Слушая Костанжогло, Чичиков начинает думать об изменении своей жизни, хотя затем вновь поддается искушению и ввязывается в очередную аферу, которая приводит его в тюрьму («темницу»). Оттуда его спасает «старик Муразов», еще один идеальный герой, символизирующий союз предпринимательства и христианской этики. Подобно благоразумному Маурисио из «Персилеса», Муразов (поистине мистическое созвучие имен!) играет роль Наставника для персонажей второго тома гоголевской «поэмы». Но, в отличие от Маурисио, ему не дано провидеть будущее. Единственный личностью в художественном мире «Мертвых душ», наделенной этим даром, является сам Автор. Его «субъективные вторжения» в повествование (используя формулу, примененную Х. Б. Авалье-Арсе к «Персилесу»18), характерные для первого тома гоголевской «поэмы», во втором томе только множатся, так что нередко текст «поэмы» превращается в своего рода проповедь, обращенную Автором к читателям.
Как известно, в «Персилесе» многие персонажи, включая героя-протагониста Персилеса-Периандра, также нередко выступают как проповедники. Поэтому, в отличие от Ф. Мерегалли19, мы не склонны считать «Персилеса» всего лишь развлекательным чтивом, адресованным «сеньоритам». Да, «Персилес» является и развлекательным сочинением, особенно в согласии с первоначальным авторским намерением, выраженным в речи толедского канноника, но в то же самое время – и тем более к концу повествования – он является дидактическим сочинением, философским и метафизическим одновременно, адресованным читателю образованному, просвещенному (в этом плане Сервантес-автор «Персилеса» соревнуется с Лопе де Вега-прозаиком, которого сам же высмеивал в Прологе к Первой части за показную эрудицию).
И здесь необходимо вспомнить, что как «Персилес», так и второй том «Мертвых душ», эти «эпические поэмы в прозе», сориентированы на сюжетную схему позднегреческого романа, продолжением которого в Испании был авантюрно-сентиментальный («византийский») роман XVI–XVII веков, а в России – аллегорический масонский роман XVIII века. Ведь сочинения Гелиодора, Ахилла Татия, Ксенофонта Эфесского, Лонга отнюдь не были простонародным развлекательным чтением, «милетскими побасенками». Как показывают исследования последних лет20, эти повествования в символико-аллегорической образности разворачивали те же темы и проблемы, о которых шла речь в диалогах Платона («Федре» и «Пире»), в «Моралиях» Палутарха, в орфических гимнах, в апокрифических евангелиях, в гностических и неоплатонических трактатах: тему изначального Единства Бытия, воплощенного в фигуре Эрота-Андрогина, миф о разрушении этого Единства и падении Души (женского начала, Софии) в материальный мир, рассказ о тоске последней по утраченной небесной Целостности и жажде воссоединения с небесным Отцом после прохождения многочисленных и многотрудных духовных испытаний. В сюжетах эллинистических романов отразились не только эти мифологемы, но и сродственные им ритуалы (орфические, исидические), так или иначе варьирующие ритуал инициации, состоящий, в свою очередь, из таких этапов, как временная смерть, странствия души во мраке в поисках света, воскрешение, финальное воссоединение разлученной мистической пары. Им соответствуют и этапы развертывания сюжета в эллинистическом романе, который уже в поздней античности начал подвергаться христианизации, продолжившейся в Средние века и особенно интенсивно в эпоху Возрождения, благодаря открытию герметического корпуса (прежде всего, в сочинениях Марсилио Фичино и Пико дел ла Мирандола). И если следовать теории «памяти жанра», этого подсознательного механизма развертывания литературного процесса, каждый автор, обращающийся к жанру «византийского» романа (повторю: именно он оказался сюжетно-композиционным прототипом «Персилеса» – первой осуществившейся «эпической поэмы в прозе»), – независимо от того, кем он был по своим сознательным убеждениям и вере, – неизбежно оказывался в зависимости от эклетической, мифопоэтической и одновременно христианской, идеологии позднегреческих и римских романистов.