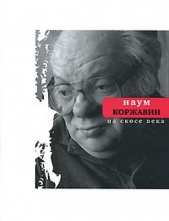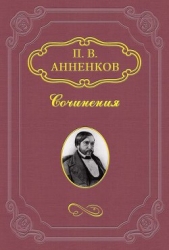От Пушкина до "Пушкинского дома". Очерки исторической поэтики русского романа

От Пушкина до "Пушкинского дома". Очерки исторической поэтики русского романа читать книгу онлайн
Центральная тема книги – судьба романа «сервантесовского типа» в русской литературе XIX—XX веков. Под романом «сервантесовского типа» автор книги понимает созданную Сервантесом в «Дон Кихоте» модель новоевропейского «романа сознания», в том или ином виде эксплуатирующего так называемую «донкихотскую ситуацию». Уже став «памятью жанра» новоевропейского романа, «Дон Кихот» оказался включенным в состав сложных многожанровых конфигураций. Поэтому читатель найдет в книге главы, в которых речь идет также о пикареске (так называемом «плутовском романе»), о барочной аллегорической «эпопее в прозе», о новоевропейской утопии, об эпистолярном романе, немецком «романе воспитания», французском психологическом романе. Модернистский «роман сознания» XX века, представленный на Западе творениями Пруста, Джойса, Кафки, Унамуно, в дореволюционной России – прозой Андрей Белого, в России послереволюционной – антиутопиями Замятина и Платонова, прозой А. Битова, наглядно демонстрирует способность созданного Сервантесом жанра к кардинальным трансформациям.
Книга адресована критикам и литературоведам, всем интересующимся теорией и исторической поэтикой романа, русским романом в западноевропейском литературном контексте.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На наш взгляд, это положение можно принять, лишь забыв о том, что Пугачев не в меньшей, а то и в большей степени, чем Савельич, выступает по отношению к Петру Гриневу не только в роли «помощника», но и в роли «вредителя»: ведь именно пугачевщина губит родителей Маши, грозит обоим молодым людям гибелью, да и помощь Пугачева, помиловавшего Гринева и защитившего «сироту» Машу от преследований Швабрина, в конечном счете, оборачивается для Гринева угрозой смертной казни, от которого его избавляют героическая инициатива его невесты и прощение Екатерины. Сказочные функции всех персонажей сказки в сюжете романа последовательно релятивизируются, контекстуализируются. Поэтому Ю. М. Лотман был, на наш взгляд, прав, когда писал, что «все опыты расширительного толкования пропповской модели и применения ее к нефольклорным повествовательным жанрам… дали, в общем, негативные результаты»13. Ни сказка, ни древнерусская повесть не являются жанровыми архетипами романа «Капитанская дочка».
Конечно, структурный «костяк» волшебной, точнее, волшебно-богатырской сказки (мотив добывания невесты особенно важен для последней) в «Капитанской дочке» просматривается, что, впрочем, неудивительно. Заново формулируя «смелую» гипотезу о том, что «архетипом одного из классов романа… является волшебная сказка»14, И. П. Смирнов словно забывает о том, что исследователи средневекового рыцарского романа связывают его генезис с волшебной сказкой и ритуалом инициации еще с конца 1920-х годов15. А именно к рыцарской эпике (хотя не только к ней) и к другим модификациям romance, как уже говорилось, восходят сюжетные мотивы романов В. Скотта, включая и «Роб Роя», произведения, многие эпизоды и образы которого, как убедительно показано в исследовании М. Альтшуллера16, были использованы Пушкиным в «Капитанской дочке».
Но для романа важен не столько сюжет, сколько избранная автором повествовательная стратегия. В этом плане сходство «Капитанской дочки» и «Роб Роя» представляется воистину существенным: и тот, и другой романы, как отмечает М. Альтшуллер, «представляют собой автобиографические записки, в которых герои в старости вспоминают свою… исполненную опасностей и приключений молодость»17. К этому наблюдению можно добавить и давнее соображение Д. Якубовича18 о приеме «лестницы рассказчиков» как об одном из «Скоттов ских ухищрений», использованных Пушкиным в «Повестях Белкина»: исследователь имел в виду последовательное введение в текст ряда повествователей. Оно вполне экстраполируется и на «Капитанскую дочку», в которой «лестницу» рассказчиков образуют Петр Андреич Гринев, его близкие, в первую очередь, Маша, и, наконец, Издатель. Повествование от лица Гринева занимает большую часть романа. В последней же главе голос Гринева всего лишь ретранслирует голос «семейного предания». На это же предание, равно как и на доставшуюся ему рукопись, ориентируется последний, обрамляющий и скрепляющий (через заглавие и систему эпиграфов) целое романа голос Издателя: он сообщает читателю о развязке описанных помещиком Гриневым событий и о судьбе его потомков.
Так стоило ли возводить «Капитанскую дочку» к волшебной сказке, целенаправленно отвергая непосредственного предшественника – «шотландского чародея»? Тем более что «сказка» – через romance – прочно вписана в сюжетику вальтерскоттовских романов, которыми зачитывался Пушкин? Стоит ли вообще проникать за «горизонты» или же можно ограничиться результатами тщательного и доказательного исследования ближайшего окружения писателя и оказанных на него прямых влияний? По-видимому, стоит. Поскольку основ ные структурно-композиционные «новации» В. Скотта, как будто бы заимствованные у него Пушкиным, В. Скотту не принадлежат, а унаследованы автором «Роб Роя» из испанской пикарески, а также – и прежде всего – у М. де Сервантеса19. Именно Сервантес первым в истории новоевропейского романа сформулировал проблему «соотношения истории, действительности и художественного вымысла»20, столь важную и для «Роб Роя», и для «Капитанской дочки».
В свою очередь, к испанскому плутовскому роману в конечном счете восходит и используемая В. Скоттом в «Роб Рое» форма повествования, поскольку пикареска была первым европейским фикциональным жанром, в котором повествователь и герой – «почти» одно и то же лицо: повествователь – это умудренный жизнью, пожилой человек, повествующий о себе, молодом, а то и ребенке. Рассказывая о своей жизни, герой-пикаро, точнее, бывший пикаро старается извлечь для читателя своего «послания» (формально оно может быть представлено и как исповедь, как записки-мемуары, адресованные потомкам, и т. д.) из своего жизненного опыта, из собственных «злоключений» и бед определенный нравственный урок (а иногда заодно – как в случае с городским толедским глашатаем Ласаро – похвастаться обретенным социальным статусом).
Таким образом, в самом строении пикарески имплицитно заложена важнейшая для всего романа Нового времени коллизия правдивости, истинности рассказываемой истории и вымысла21: перволичный рассказ вызывает особое доверие слушателя. С перволичным повествованием непосредственно связана анонимность первой пикарески, столь созвучная анонимности «Уэверли» и других выступлений Скотта-романиста, а также анонимности или гетеронимности выступлений Гоголя и Пушкина-прозаика22, носящих сугубо игровой характер.
В этом плане, как уже отмечалось в первой главе этой книги, роман Нового времени, начиная с «Ласарильо» и «Дон Кихота» – качественно новый этап развития вымышленного повествования. Пост-мифологическая сказка – всегда «ложь», рыцарский роман – или сказочный вымысел (увлекательно-поучительная ложь), или «историческое» сочинение, принадлежащее перу древнего хрониста и не нуждающееся в иных доказательствах своей достоверности. Роман
Нового времени – вымысел и «правдивая история» (так именует свое сочинение Сервантес) одновременно. Он – игра в достоверность. Сказка, а также античный или рыцарский роман вошли в строение романа новоевропейского, но это не означает, что последний может быть редуцирован до сказки и даже до рыцарского романа (последний же до сказки как раз легко редуцируется!). Роман как новоевропейский жанр создается на качественно новых основаниях: он включает в себя предшествующие ему литературные и внелитературные жанры (формы высказывания) на правах образов жанров – жанровых миров, пародируемых, травестируемых, иронически парафразируемых, просто цитируемых. Роман моделируется не «костяком функций», а композицией, игрой повествовательных точек зрения, отношениями в треугольнике автор – герой – читатель.
Сохраняя «голую» фабулу romance в той линейной комбинации мотивов, которые мы находим то ли в волшебной сказке, то ли в «Роб Рое», Пушкин-романист одновременно ломает эту перспективу, перемещает интерес читателя из сферы событийной в область сознания героя-повествователя23, частного лица – «честного» потомственного дворянина XVIII века, жанровый строй мыслей и мировосприятия которого и воссоздает целостный образ отошедшей в прошлое исторической эпохи – «века Екатерины». Поэтому, следуя во многом за В. Скоттом, Пушкин не просто совершенствует исторический роман вальтерскоттовского типа, убирая из него «характерные для Скотта недостатки»»24. Элиминируя из своего повествования почти все психологическое, быто– и нравоописательное, этнографическое, историографическое, автор «Капитанской дочки» последовательно деконструирует романистику Скотта, обнажает ее жанровые «стропила». Тем самым реконструируя в их первозданности такие жанровые миры как авантюрно-любовный romance c его сказочно-ритуальной сюжетной формулой, пикареску, сервантесовский роман, т. е. все исходные, жанрово-архетипические, формы европейского романа Нового времени.
Определяющей для жанрового строения пушкинского романа – подчеркнем еще раз – является избранная автором форма повествования от первого лица, изначально характерная, как уже говорилось, для пикарески. Именно под влиянием испанского плутовского романа такие традиционные перволичные формы дискурса, как исповедь, эпистола, автобиография, мемуары, «записки», дневники, многие из которых существовали до «Ласарильо» на правах нефикциональных, внелитературных, «деловых» жанров («первичных» речевых жанров, по М. Бахтину), на протяжении XVII–XVIII веков начали приобретать статус «литературности», включаться в сферу художественного вымысла, втягиваться в орбиту утверждающего себя как достоверный вымысел новоевропейского романа. Таким образом, перволичное повествование на протяжении XVIII века становится элементом литературной игры автора с читателем в истинное / сочиненное25.