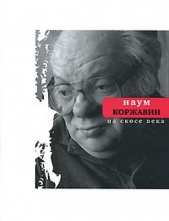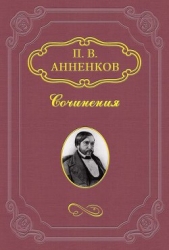От Пушкина до "Пушкинского дома". Очерки исторической поэтики русского романа

От Пушкина до "Пушкинского дома". Очерки исторической поэтики русского романа читать книгу онлайн
Центральная тема книги – судьба романа «сервантесовского типа» в русской литературе XIX—XX веков. Под романом «сервантесовского типа» автор книги понимает созданную Сервантесом в «Дон Кихоте» модель новоевропейского «романа сознания», в том или ином виде эксплуатирующего так называемую «донкихотскую ситуацию». Уже став «памятью жанра» новоевропейского романа, «Дон Кихот» оказался включенным в состав сложных многожанровых конфигураций. Поэтому читатель найдет в книге главы, в которых речь идет также о пикареске (так называемом «плутовском романе»), о барочной аллегорической «эпопее в прозе», о новоевропейской утопии, об эпистолярном романе, немецком «романе воспитания», французском психологическом романе. Модернистский «роман сознания» XX века, представленный на Западе творениями Пруста, Джойса, Кафки, Унамуно, в дореволюционной России – прозой Андрей Белого, в России послереволюционной – антиутопиями Замятина и Платонова, прозой А. Битова, наглядно демонстрирует способность созданного Сервантесом жанра к кардинальным трансформациям.
Книга адресована критикам и литературоведам, всем интересующимся теорией и исторической поэтикой романа, русским романом в западноевропейском литературном контексте.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
32 Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. М.: Советский писатель, 1983. С. 284–285.
33 Грехнев В. А. Диалог с читателем в романе Пушкина «Евгений Онегин» // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XI. Л.: Наука, 1979. С. 100.
34 Традиционность фабулы «романа» Онегина и Татьяны, как и сюжет «двух друзей», не отменяет того нового, что вносит в их пересозидание Пушкин.
35 Лотман Ю. М. Пушкин и повесть о капитане Копейкине. К истории замысла и композиции «Мертвых душ» // Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 241 и сл.
36 Образование рыцарства как сословия в Западной Европе уничтожило разбойничью вольницу вооруженных всадников, направив их силу на сформулированные духовно-рыцарскими орденами – идеологами рыцарского служения, высшие цели, в том числе и на служение Деве Марии и ее десакрализованному земному «двойнику» – Прекрасной Даме. С другой стороны, рыцарская служба до поры до времени сохраняла для феодальной аристократии (средневековых «джентльменов») дух воинской героики. Этот дух начал стремительно выветриваться из аристократической среды в эпоху Возрождения, когда на смену рыцарству пришла регулярная наемная армия, когда рыцарь стал «придворным» (воистину «джентльменом»), а солдат – грабителем, и когда Сервантес – в укор своему времени – создал рыцаря Печального Образа и рядом с ним – первого в европейской литературе благородного разбойника – Роке Гинарта.
37 «В плане автора, – пишет Ю. Н. Чумаков, – „Евгений Онегин“ заканчивается в 1823 году, в Одессе, когда Пушкин действительно приступил в работе над ним. Создается впечатление, что роман начинается за его концом» (Чумаков Ю. Н. Указ. соч. С. 11).
«Капитанская дочка»:
От плутовского романа – к семейной хронике
По мнению Е. М. Мелетинского1, цели и задачи исторической поэтики не только не включают, а исключают традиционную область компаративистских штудий – поиск влияний и заимствований. В последней пушкинистика, впрямь, накопила огромный запас наблюдений. Правда, до сих пор сохраняется крен в сторону сближения Пушкина преимущественно с французской литературой XVIII – начала XIX века, тогда как еще В. М. Жирмунский отмечал, что «отношение Пушкина к западным писателям было различным на разных этапах его творчества»: «Французы XVIII века (в особенности Вольтер), Байрон, Шекспир и Вальтер Скотт2 обозначают последовательные литературные влияния, творчески воспринятые и претворенные в его поэзии»3. Однако в приведенном В. М. Жирмунским списке имен нет Данте, Петрарки, Ариосто, Сервантеса (последнего Пушкин пытался читать в оригинале в последние годы жизни, хотя «Дон Кихот» в пере воде Жуковского, по всей видимости, был ему и до того прекрасно известен). Кроме того, эти и другие, в том числе и приведенные В. М. Жирмунским, имена поэтов и прозаиков западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени не столько обозначают последовательность влияний на Пушкина «западных» писателей, сколько выявляют две характерные и во многом пересекающиеся закономерности расширения его творческого кругозора. Во-первых, еще раз высвечивают тот факт, что творческий рост зрелого Пушкина сопровождался нисхождением, точнее, восхождением пушкинского гения вглубь столетий. «Современностью, – писал о Пушкине В. Вейдле, – его Европа не только не исчерпывалась, но и чем дальше, тем больше ей противополагалась. Он воспитался на литературе восемнадцатого века, но дальнейшее развитие его заключалось не в том, чтобы он старался поспешать за девятнадцатым, а в том, что он как бы возвращался вспять к семнадцатому, к шестнадцатому, к величайшим векам Европы…»4. Во-вторых, движение творческой мысли
Пушкина за пределы Франции, к возрожденческим Италии, Англии и Испании, явно соотносится со взятой им на себя миссией укоренения на русской почве новой трагедии и нового романа. С конца 20-х годов последняя задача – превратить роман и сопутствующую ему и почти не отличимую от него повесть в жанры высокого искусства – все больше выступает на первый план.
Но для создания нового русского романа нужна была опора на западноевропейский опыт, прежде всего на опыт тех стран, где роман как феномен новоевропейской прозы возник и получил развитие. А такими странами были Испания и Англия. В Испании раньше, чем где бы то ни было, в середине XVI – начале XVII века, новоевропейский роман возник в его двух жанровых ипостасях – как роман плутовской (или пикареска) и как роман так называемого «сервантесовского» типа5. Отталкиваясь от пикарески и «Дон Кихота», скрещивая эти две изначально несовместимые романные традиции6, а заодно объединяя их с восходящей к позднегреческим временам традициям жанра romance7, английские романисты XVIII века, от Дефо до Стерна, создали все основные типы и формы новоевропейского романа – любовно-сентиментальный, нравоописательный, семейно-бытовой, заложили основы «романа воспитания» и философского романа8. Уже в романтическую эпоху В. Скотт вторично (после Филдинга) соединил в своем историческом романе опыт romance (в форме «готического» романа) и опыт романистов-просветителей, одновременно учитывая и опыт их предшественников, прежде всего, Сервантеса, которого знал с детства в оригинале. Пушкин же – подчеркнем еще раз – двигался и рос в «обратной перспективе»: от В. Скотта (и Метьюрина) – к Сервантесу, к испанской романной классике.
Однако создатель «Онегина» и «Капитанской дочки», «Повестей Белкина» и «Медного всадника», как нам представляется, искал не какие-то «образцы» для подражания или «учителей», а творцов-едино мышленников, тех, чьи произведения стали бы подтверждением верности его собственных экспериментов в деле создания новых повествовательных жанров. Поэтому, говоря о месте романов Пушкина в общеевропейской романной традиции (а русский роман мог обрести свое особое лицо только внутри нее), надо начинать не с «влияний», и даже не с «взаимодействий», а с типологических сопоставлений. Исследование контактов прямых, непосредственных (какую бы форму они не принимали – заимствования, полемики, отталкивания, пародирования) было бы полезно подчинить изучению того, что М. Бахтин называл «памятью жанра».
Тем самым, из области традиционных сравнительно-исторических штудий мы перемещаемся в область «исторической поэтики наоборот» (Е. М. Мелетинский), в сферу так называемого «ретроспективного» историко-поэтологического анализа9. А в этой области, как уже говорилось, пушкинистика делает только первые шаги. При этом наиболее обойденным вниманием исследователей оказывается центральная проблема исторической поэтики – «жанр»: авторы многих работ ищут в текстах Пушкина следы архетипических образов и сюжетных схем, мифопоэтические и мифоритуальные первоформы художественного сознания (точнее, бессознательного!), воплотившееся в «вещество литературы», не принимая в расчет того, что «сюжет» или «герой» в новых литературах далеко не всегда моделирует «жанр».
Тому доказательство – уже упоминавшееся исследование И. П. Смирнова «От сказки – к роману»10. Оно и по сей день не потеряло своей актуальности, а многие его выводы – убедительности.
Как уже было отмечено, И. П. Смирнов базируется на достаточно жестком противопоставлении «исторической поэтики – I» (ИП-I) и «исторической поэтики – II» (ИП-II): под первой ученый понимает «анализ отношений… непосредственного следования»11, под второй – анализ произведения под углом зрения установления «последовательно сти „горизонтов“ его структуры, уходящей в прошлое»12 (ИП-II), то есть область ретроспективной исторической поэтики. В духе ИП-II Смирнов трактует сюжет «Капитанской дочки» как серию «сказочных» испытаний Петра Гринева и его возлюбленной, пройти которые им помогают «чудесный» помощник – Пугачев и помощники «пародийные» (амбивалентные) – Савельич и Зурин, являющиеся одновременно и «вредителями» («вредитель» безусловный – Швабрин).