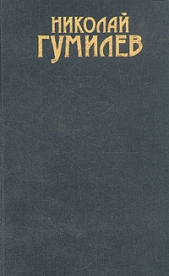«Стихи мои! Свидетели живые...»: Три века русской поэзии

«Стихи мои! Свидетели живые...»: Три века русской поэзии читать книгу онлайн
Это не история русской поэзии за три века её существования, а аналитические очерки, посвящённые различным аспектам стихотворства — мотивам и образам, поэтическому слову и стихотворным размерам (тема осени, образы Золушки и ласточки, качелей и новогодней ёлки; сравнительный анализ поэтических текстов).
Данная книга, собранная из статей и эссе, публиковавшихся в разных изданиях (российских, израильских, американских, казахстанских) в течение тридцати лет, является своего рода продолжением двух предыдущих сборников «Анализ поэзии и поэзия анализа» (Алматы, 1997) и «От слова — к мысли и чувству» (Алматы, 2008). Она предназначена как для преподавателей и студентов — филологов, так и для вдумчивых читателей — любителей поэзии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Если Ю. Левитанский просто описал лежавшую во дворе ёлку, то Ахмадулина просит прощения за её гибель у родителя-ельника. «Тень Ёлки, призрачно-живая», преследует автора, и во сне привидится то «другом разлюбившим», а то «сам спящий — в сновиденье станет той, что взашей прогнали, Ёлкой». Надеясь на «милость ельника», поэтесса представляет, как Вербным Воскресеньем склонится она перед елью, как дождётся Прощёного Дня и Чистого Понедельника и наконец услышит: «Воскресе!» Пожалуй, после всего этого религиозного экстаза концовка поражает своей сниженностью и самоиронией:
Казалось бы, в этом ахмадулинском тексте переплелись и совместились почти все мотивы, отразившиеся в разработке данной темы другими стихотворцами: языческая радость праздника вокруг нарядной ёлки, и прощание с ней, выброшенной на свалку, и чувство вины, и тайная любовь, и связь с Рождеством, и ожидание чудес. Можно ли ещё что-нибудь добавить, чем-то ещё дополнить?
Тем не менее Ахмадулина опять берётся за ту же тему в цикле «Возле ёлки» и делает ёлку главной героиней, называя её Божеством, а себя «верноподданным язычником», понимающим, что ельник отпустил своё дитя на казнь. На неё «напялят драгоценностей сверканье», а после их отнимут; ею любуются, её славословят, но «она грустит — не скажет нам, о ком». Может, об отчей почве или как терзали её топором — не родить ей больше шишек. Размышления о судьбе ёлки заводят автора слишком далеко: к ассоциациям с нечистивцем-ханом и его наложницей, с атаманом-разбойником и его пленницей, с древними греками и великим Паном, с Плутархом и Врубелем и, что более обычно, с Рождеством и Крещением. Ассоциативный ряд замыкает тематическое кольцо: «в красе невинных кружев или рубищ / в дверь обречённо Божество вошло…» («31 декабря: к Ёлке»).
А «Ночь возле Ёлки» служит как бы послесловием к предыдущему стихотворению, снижая его пафос. Поэтесса явно посмеивается над собой: «Я, Ёлке посвящать привыкшая печали, / впадаю… — как точней? — в блаженность слабоумья». В сущности, «Ночь» посвящена не столько ёлке, сколько поэзии и стиху, который «сам себя творит», «добытчик и ловец», за всем следит и воссоздаёт свой мир, где встречаются Щелкунчик и Мышиный царь, Альпы и Бежар, Швейцария и балет. Этот «вымыслов театр» (а за 20 лет до этого был разыгран «стихотворения чудный театр») сотворён воображением из ёлки, игрушек и скребущейся мыши.
В отличие от Ахмадулиной молодой, начинающий поэт Борис Рыжий не расстаётся, а встречается с новогодней ёлкой и изображает её не в философском и религиозном духе, а в непосредственном, наивно-детском восприятии. То ему мерещится, как в старинном парке звери водят хоровод вокруг ёлки и белочки-игрушки висят на ветках («Новогодняя ночь», 1994); то «флажки на ёлке алеют, как листы календаря», потому что дни в этом тяжёлом году были алыми от крови («Новогоднее письмо», 1993); то хотелось бы поселиться под ёлочкой, стать маленьким, «с ноготок», и чтобы хлопали хлопушки, на макушке загоралась звезда, и «тёплой ватой был укутан ствол», а беззащитного, смешного крошку кормили, поили, жалели и прощали («Детское стихотворение», 1996). Или видится возле ёлки мальчик (возможно, сын автора), который ждёт чуда, и ему не нужны ни конфеты, ни мандарины, ни солдатики, ни машинки. А отец, чувствуя свою вину, «готов вместе с ним разрыдаться» («Две минуты до Нового года», 1996).
А вот позднему Е. Евтушенко ёлка напомнила не детство, а молодость и юношескую любовь («Ёлка», 1998). Во время прогулки по «Москве-грязнуле, похорошевшей в снегу», его задела чья-то ёлка, «что-то иглами шепча». Она свисала с плеча прохожего, была связана веревкой, и показалась поэту «пленницей» и «красавицей неловкой», отданной «в чужие люди». И вспомнилось ему, как давным-давно, «как ёлка, ты меня задела / ветвями прямо по лицу», а потом «тебя, как ёлку, воровато / на пир чужой уволокли». И Евтушенко, что характерно для него, не может не включить в лирику публицистическую нотку — и мы, и вся страна с тех пор стали другими: «Мы быть собою перестали. / Остались только имена». Но, ностальгируя по прошлому, автор не забывает его, а в сердце живы былые чувства.
Так ХХ век простился с новогодней ёлкой, воспел и оплакал её. Кто снова вспомнит о ней в новом столетии?
2008.
О поэтическом языке, слове и образе
Поэтическая лингвистика в стихах русских поэтов XX века
Поэты часто признаются в любви к родному языку, но редко в своих стихах обсуждают лингвистические проблемы, считая это делом учёных-лингвистов: «А лингвисты перья очиняют, / новые законы сочиняют» (Б. Слуцкий). И всё-таки в русской поэзии ХХ в. мы иногда сталкиваемся с высказываниями авторов то об алфавите, то о неологизмах и архаизмах, то о глаголах и междометиях, то о синтаксическом строении речи.
Возможно, интерес к поэтической лингвистике берёт начало в творчестве футуристов с их идеей создания нового языка и особенно у В. Хлебникова, который в каждом звуке отыскивал определённый смысл («ч» — оболочка: чаша, чулок, череп) и представлял историю человечества как смену букв: «Но Эль настало — Эр упало. Народ плывёт на лодке лени, и порох боевой он заменяет плахой, а бурю — булкой…» («Зангези»). Исследователь идиостиля Хлебникова В.П. Григорьев назвал его «первым поэтом-фантастом-интерлингвистом», творившим систему «воображаемой филологии» (Григорьев В.П. Грамматика идиостиля. В. Хлебников. М.: Наука, 1983. С. 83, 88). А В. Маяковский отстаивал право поэта на деэстетизацию и неблагозвучие стиха: «Громоздите за звуком звук вы / и вперёд, поя и свища. / Есть ещё хорошие буквы: / Эр, / Ша, / Ща».