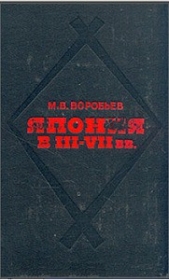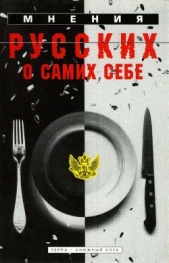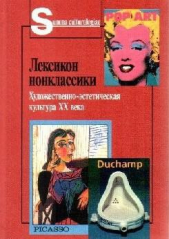Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект

Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Очевидно, однако, что преимущество магических писем не только в их универсальной семантизируемости, но и в самой форме бытования. Сама идея «цепи» или «круга», сформированного постоянно тиражируемым письмом, подразумевает создание некоей новой социальной реальности, «общества переписчиков», созданного благодаря появлению в мире сакрального текста. Поэтому можно предположить, что одна из главных функций круговых писем связана с компенсацией социальных и культурных кризисов, переживаемых обществом. Речь идет, конечно, не о деревенской традиции: в крестьянской общине такая компенсация достигается иными средствами, а магическое письмо в ней играет по преимуществу роль оберега. Вместе с тем достаточно важно, что с определенной точки зрения и экстатические пророчества, и речь кликуши, и абракадабра, и глоссолалия, и магические письма принадлежат к одному и тому же классу культурных явлений. Все эти виды текстов ассоциируются с «прямой речью» потустороннего мира. Все они характеризуются «нулевым» (или близким к «нулевому») приращением информации, фактически представляя собой проекции «вытесненных» потребностей и страхов сообщества и преимущественно выполняя нормализующие и компенсаторные функции. Наконец, все они предоставляют своей «аудитории» обширные перспективы вторичной семантизации и интерпретации. Думаю, что общее типологическое исследование культурных явлений такого рода могло бы существенно расширить наше понимание повседневной религиозной жизни и религиозного фольклора различных социальных групп.
Эсхатология и аккультурация
Выше я неоднократно отмечал, что формирование фольклора и ритуалистики христовщины и скопчества было в значительной степени обусловлено эсхатологическими ожиданиями и чаяниями. Надо сказать, что слухи, толки и верования апокалиптического характера вообще довольно широко представлены в русском и европейском фольклоре Средневековья и Нового времени. При исследовании материалов такого рода особенно сложным обычно оказывается вопрос о тех культурных механизмах, которые вызывают к жизни эсхатологические верования и ожидания. Не составляет исключения и наш случай: понятно, что христовщина была лишь одним из религиозных движений, обусловленных эсхатологическим кризисом XVII в. Однако гораздо труднее понять причины и внутреннюю логику этого кризиса. Думаю, что для понимания общих типологических закономерностей «народной эсхатологии» будет уместно сделать небольшое отступление и поговорить о фольклорных материалах, не имеющих прямой связи с христовщиной или скопчеством, но достаточно ясно высвечивающих некоторые специфические черты и функции крестьянских представлений о «последних временах».
Нет нужды доказывать, что во всех христианских конфессиях эсхатологические учения и верования играют достаточно важную роль. Столь же очевидно, что особенности этой роли зависят от культурно-исторического контекста. С одной стороны, представления о конце света и судьбах человечества служат предметом профессиональных толкований Писания, богословских опусов, апокрифической литературы. С другой — эсхатологические представления и верования активно функционируют в не специализированном, фольклорном контексте, подчас оказывая значительное воздействие на процессы повседневной коммуникации. Об этой стороне эсхатологии я и хотел бы говорить ниже. Материалом послужат этнографические свидетельства, относящиеся преимущественно, к крестьянской культуре и не выходящие за рамки конца XIX—XX вв. Дело в том, что имеющиеся данные позволяют говорить об особом типе эсхатологического нарратива, характерном для русского крестьянства этого времени. Специфика текстов такого рода не может быть понята без учета особенностей их исполнения, поэтому особенное значение приобретает анализ адекватно записанных и хорошо документированных рассказов, в частности — современных полевых материалов.
Прежде чем приступить к рассмотрению этих данных, необходимо высказать одно предварительное замечание. С некоторой долей обобщения мы можем говорить о двух традиционных типах «эсхатологического поведения». Первый представляет собой эсхатологические ожидания, не оказывающие кардинального влияния на жизненный уклад и поведенческие модели их носителей. Ждать конца света или рассуждать о его признаках могут и крестьянин, и аристократ, и православный, и старообрядец, оставаясь при этом нормальными членами общества и выполняя привычные социально-экономические обязанности. Другой тип — эсхатологические движения, чьи участники, полагая, что конец света уже начался или не замедлит последовать, считают необходимым отказаться от традиционного образа жизни и в корне изменить свое поведение. Последствия таких движений, обычно возглавляемых харизматическим лидером (или лидерами), довольно разнообразны: от массовых самоубийств до вооруженных восстаний. Естественно, что оба типа эсхатологического поведения не изолированы друг от друга и находятся во взаимодействии. Однако каждый из них обладает определенной спецификой.
Рассматриваемые здесь тексты очевидным образом связаны с первым типом. «Толки народа» о конце света, Антихристе, Страшном суде и т. п. не раз служили предметом публикаций в отечественной фольклорно-этнографической литературе [917]. Однако единственной известной мне работой, специально посвященной анализу этого материала [918], является недавняя статья А. Ф. Белоусова [919]. Она основана на фольклорных записях, собранных в 1970-х гг. среди русских старообрядцев-беспоповцев в Прибалтике, хотя анализируемые в ней тексты нельзя считать характерными лишь для старообрядческой традиции (по крайней мере так обстоит дело в рассматриваемую эпоху). Исследуя эсхатологические высказывания прибалтийских беспоповцев, Белоусов исходит из двух методических принципов. Во-первых, он старается отыскать соответствия современных народных толков о «последних временах» и «старинной эсхатологической образности», разумея под ней символику письменных памятников апокалиптического содержания (как канонических, так и апокрифических). При этом автор указывает, что «правильное понимание» этой образности «среди информантов зачастую отсутствует» [920]. Во-вторых, одновременно с поиском книжных прототипов исследователь предпринимает синхронный анализ эсхатологических воззрений информантов. В конечном счете он сводится к выявлению базовых концептов и противопоставлений, соотносимых с представлениями о конце света [921].
Хотя методы, используемые Белоусовым, вполне продуктивны для анализа народной эсхатологии, они представляются далеко не исчерпывающими. Прежде всего, они не позволяют высказать твердого суждения о функциях трактуемых эсхатологических текстов [922], а также об их морфологии и типологии. Кроме того, они дают преимущественно структуральные (т. е. универсальные) объяснения тех образов и мотивов, которые не имеют прямых прототипов в письменных памятниках. Наконец, даже применительно к очевидным или неочевидным книжным заимствованиям остается неясным, почему именно они были инкорпорированы в фольклорные тексты.
Вопрос о соотношении устных и письменных форм в русском фольклоре вообще и в крестьянских религиозных традициях в частности заслуживает специальных оговорок Со времени работ А. Н. Веселовского и его последователей в области истории христианской легенды и духовного стиха эта проблематика рассматривается в связи с динамикой отдельных мотивов и сюжетов, проникавших из литературных памятников в фольклор или наоборот — из устной словесности в письменную. Однако тут существует достаточное количество трудностей. Во-первых, историко-генетический анализ позволяет только констатировать факт заимствования, а также — лишь в некоторых случаях — определить исторические условия последнего. Объяснить социокультурные причины таких процессов, как правило, не удается.