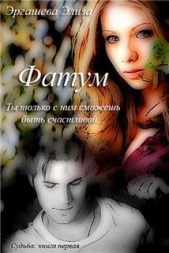Мастера иллюзий. Как идеи превращают нас в рабов

Мастера иллюзий. Как идеи превращают нас в рабов читать книгу онлайн
Книга историка Ильи Носырева рассматривает явление религии с точки зрения теории мемов, согласно которой религиозные идеи являются своего рода паразитами, способными воспроизводить себя вопреки интересам их носителей — людей. Этот взгляд позволяет объяснить многие феномены религии, долгие десятилетия являвшиеся загадкой для религиоведов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вопрос о труде закономерно решается в общежитиях: в пахомиевой koinonia был предусмотрен обязательный труд, и это становится нормой для последующих монастырей — жизнь в складчину и сложная организация требовали распределения труда по принципу «кто не работает, да не ест». Труд монахов стал основой для хозяйственной жизни обители, однако при этом монастыри не отказываются и от милостыни: Палладий описывает, как надзиратель богадельни Макарий практически вымогал пожертвование у богатой девушки 43.
Отметим, что в мире западного монашества дискуссия о труде продолжалась и в Средние века: в VIII–IX веках встал вопрос, в пользу какого труда — физического или интеллектуального — нужно сделать выбор. Многие из авторитетных публицистов (в частности, Гильдемар) считали необходимыми оба 44, но на деле в бенедиктинских монастырях умственный труд неуклонно вытеснял физический: обители превратились в центры создания духовной литературы, оказавшей влияние на все западноевропейское христианство, и задача воспроизводства и распространения идей оказалась важнее задачи поддержания хозяйства, которую возложили на плечи conversi или familiares — слуг, а впоследствии — несвященствующих монахов. Труд духовенства был реабилитирован относительно поздно — лишь к XII веку. На Востоке — в Византии VIII–IX веках и впоследствии на Руси — монахи сами обеспечивали себя всем необходимым, а не жили за счет ренты (например, иноки Студийского монастыря). Игумены были рачительными хозяевами, что вызывало насмешки западного духовенства.
В начале VI века анонимный автор отмечает еще один любопытный тип монахов — гироваги, «бродящие по кругу»: это те, кто посещал разные обители, оставаясь везде понемногу и сравнивая уставы и нормы жизни. Гироваги существовали еще в IV веке, поскольку авторы «Лавсаика» и Руфин фактически занимаются тем же — путешествуют по египетским пустыням, посещая обители. Такие монахи-«туристы» играли важную роль в распространении идей, связывая различные обители между собой, а также с остальным миром. Важный плюс с точки зрения распространения идей был и у сарабаитов: они были способны разносить их по обширной территории, знакомя с ними тысячи людей. Вот почему бродячие монахи, несмотря на все их осуждение, так и не исчезли из истории христианства — другое дело, что в Средние века монастыри как бы «приручают» их: большинство странствующих проповедников являются братьями той или иной киновии. У оседлых монахов есть другие сильные стороны: в эпохи гонений и потрясений монастырь становится для них крепостью, в эпохи неурожаев или голода — гарантией выживания. Оседлая жизнь позволяет также аккумулировать религиозные тексты: монастыри располагают самыми крупными во все ранние Средние века библиотеками.
Итак, отшельнические общины не имели готовой программы, а обмениваться между собой опытом организации жизни могли лишь в очень узких рамках — монах, перешедший из одной общины в другую или покинувший ее, чтобы создать собственную, мог позаимствовать какие-то черты, которые казались ему соответствующими духу Христова учения, но редко озабочивался тем, чтобы анализировать эти черты с точки зрения задачи поддержания своей общины как структуры. Вот почему развитие монастыря — хороший пример естественного, не направляемого сознательно отбора идей. Примечательно, что живший до революции верующий историк Л. П. Карсавин трактует эволюцию монастыря вполне в духе дарвинизма — хотя он сам, вероятно, очень бы удивился, если бы узнал о существовании мемов: «В волнующейся массе аскетов мало-помалу всплывают более прочные и долговечные организации» 45. Интересно и то, что сирийское монашество, в значительной степени развивавшееся независимо от египетского, по большей части породило те же формы и те же ответы на основные вопросы. Это говорит о том, что рождение монастыря было закономерным.
История монастыря, таким образом, — это история аккумуляции случайных изобретений, удачность которых была осмыслена лишь века после того, как они оказались применены на практике. В дальнейшем эти прошедшие сквозь сито естественного отбора и продемонстрировавшие свою эффективность формы были сознательно закреплены и теоретически разработаны в ряде сочинений — начиная с «Жития Антония Великого» Афанасия Александрийского, написанного в IV веке, и заканчивая уставом Бенедикта Нурсийского, составленным в VI веке и послужившим образцом для десятков монастырей. Если на заре отшельничества христианские аскеты чаще копировали «результат» (т. е. подражали друг другу), то появление уставов позволило перейти к копированию «инструкций», многие из которых оказались столь долговечными, что определяют жизнь западного и восточного монашества до сих пор. Более того, скопировала эти «инструкции» и сама католическая церковь, уже во многом осознанно позаимствовав такую полезную для себя аскетическую установку, как целибат. При этом отцы церкви, в частности св. Иероним, обосновывали необходимость целибата отнюдь не экономическими соображениями — более того, едва ли вообще рационалистическими категориями: монашество зарекомендовало себя как наиболее последовательный и деятельный проповедник христианских идей, и в сознании христианских мыслителей это находило объяснение прежде всего в том, что жизнь, которую они вели, благостна и угодна Богу. Следовательно, церковь должна в известном смысле скопировать монастырский уклад. Принимая обязательность целибата, объединяя уже существующие монастыри и открывающиеся в различных частях Европы приходы в одну громадную квазипопуляцию, церковь стала чем-то вроде обширной радиосети, открывающей все новые точки вещания.
Что касается экономического эффекта целибата, то он проявился во всей своей полноте довольно много времени спустя, уже в V–VI веках. Если феодал делил свои земли между сыновьями, то земли и имущество церкви не подлежали дроблению. Таким образом, эта квазипопуляция была просто обречена на то, чтобы со временем стать обладателем крупных богатств, одной из первоочередных задач использования которых, подчеркнем, было привлечение новых адептов. «Парадокс всякой рациональной аскезы, то, что она сама создавала богатство, ею же отрицаемое, в равной мере затруднял монахов всех времен» 46. Отметим, что значительная часть священнослужителей противилась введению целибата — вот почему в католической церкви он приживался как бы волнами: после очередного подтверждения на церковном соборе тезиса о чистоте священнического жития следовали периоды обмирщения, когда священники на местах переставали выполнять это требование, заводя конкубин или даже открыто женясь. Целибат в католической церкви утвердился лишь в XI веке, при папе Григории VII, тогда как в православной церкви он превратился в обязательное требование лишь для черного духовенства.
Избавление от реальности: рождение буддистского монастыря
Генезис буддийского монастыря имел предысторию настолько долгую, что монастырь христианский выглядит по сравнению с ним едва ли не скороспелкой: корни аскетических общин в Индии уходят во II тысячелетие до н. э. Аскеза наложила сильнейший отпечаток на доктрины всех крупнейших религий страны и индийскую философию в целом: Макс Мюллер едва ли преувеличивал, говоря, что культурная жизнь Индии протекала не в городах, а в лесах и деревнях, где селились отшельники 47. «В глазах мирян аскеты были героями умерщвления плоти и победы духа над ограниченностью материальных условий, — пишет русская исследовательница Индии Виктория Лысенко. — Их присутствие было своего рода гарантийным знаком духовной чистоты не только той или иной религиозной доктрины, но и религиозного уклада как такового» 48. Ни в одной другой традиции аскеза не играла столь важной роли и не принимала такого массового характера: она является стержнем буддизма и джайнизма, а также получает распространение в ряде школ индуизма — в частности, в адвайте-веданте, адживике и т. п. При этом более чем скудное число документов, касающихся наиболее древних периодов существования аскетических общин, не позволяет нам воспользоваться тем же методом анализа, что и в случае с христианским монастырем, и показать рождение концепции монастыря в буддизме как результат борьбы идей. Вот почему вместо этого я покажу постепенную эволюцию представлений об аскезе, попутно предлагая свое объяснение, почему в религиозной традиции индуизма, буддизма и джайнизма закрепились именно те, а не иные. Первые упоминания об аскетах встречаются уже в «Ригведе», где речь идет об общинах таинственных вратья (в которых некоторые исследователи видят аскетов, принадлежавших к какой-то доарийской традиции) 49 и молчальников-муни. И те и другие претерпевают эволюцию во времени. В наиболее древних текстах (прежде всего в «Ригведе») вратья изображены как отшельники, живущие в обособленных поселениях и употребляющие опьяняющие вещества, чтобы входить в транс, а муни выглядят типичными шаманами, способными посещать потусторонний мир благодаря упражнениям в молчании. В более поздних текстах вратья занимаются целительством и именуются «защитниками правды» 50 и «божественными» 51, а муни рассматриваются как подвижники, которым удалось порвать путы, связывающие их с этим миром, и познать Атмана (высшее «я») 52.