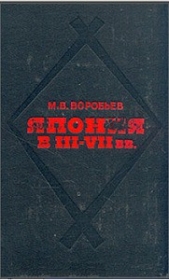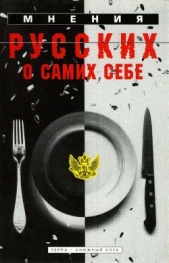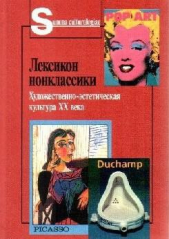Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект

Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сатана посылает за семенами «двух самых злющих из дьяволов»:
Хотя мотив происхождения картофеля из «срамных уд» и вторичен по отношению к легендам о появлении табака, характерна одна деталь: картофель неизменно связывают с мужскими гениталиями. Этому вторят и письменные изречения о картофеле (по всей видимости, предшествовавшие обеим повестям). Картофель называется здесь «бесовским хлебом» и «кобелиными яйцами» [1078]. Та же ассоциация встречается и в устной традиции. Так, в пересказе первого из сюжетов о происхождении картофеля, записанном П. Г. Богатыревым в Шенкурском уезде, «картофь» вырастает «от пса», а табак — «от царевны» [1079]. В южной Карелии запрет включать блюда из картофеля в число поминальных блюд обосновывается тем, что «картошка — грыжа (или половые органы) черта, лешего» [1080]. Кроме того, зафиксированы представления о картофеле как о дьявольских яблоках, дублирующих созданные Богом райские яблоки [1081], и даже — как о «яблоках добра и зла» [1082] (ср. с вышеприведенным скопческим рассказом о грехопадении).
Показательно, что большинство изречений и повестей трактует появление картофеля в качестве несомненного эсхатологического признака:
Гл(агол)ет бо о нем святыи Симеон Новый Б(о)гослов, яко он приидет антихрист, противник Христу, принесет сласти похотные по их нраву...; в то время будет трава еже от него зовомая картофь, антихристова похоть, а иныя нарицают овъвощем, и распространится по лицу всея земли и всяк возраст возлюбит сласть великую, и помрачатся человецы оумом яко пияны [1083].
Распространение картофеля приведет к неурожаю и всеобщей гибели, а те, кто ел «сие мерзкое зелие», обречены на вечные муки:
Аще в которой стране расплодят людие сие проклятое зелие, то в той стране не будит плода пошеницы и всякаго овощия не будит, и нужда, а потом смерть, а по смерти мука вечная со дияволом в негасимый огнь. ‹...› Аще который человек сие зелие ял, то до самой смерти должен плакать и каяться о том гресе, да прощения приймет от Бога; аще который человек ял, по смерти своей царства небеснаго во веки не наследует, аще за Христа и кровь свою прольет и аще на сковроде огненой... ‹несколько слов утрачено› [1084].
Хотя последовательное внедрение картофеля в качестве сельскохозяйственной культуры и связанные с этим крестьянские бунты относятся к эпохе Николая I [1085], эсхатологические сказания о «земляных яблоках» появились в России гораздо раньше. Никифоров полагал, что упомянутая «первая повесть» (где речь идет о царевне, соблудившей со псом) сложилась в XVIII в. у средневолжских старообрядцев [1086]. Обратим внимание, что первая попытка массового распространения картофеля относится ко времени, непосредственно предшествовавшему появлению скопчества. В 1765 г. был издан ряд сенатских указов о необходимости культивирования картофеля с подробными инструкциями по его разведению и использованию [1087]. В том же году семенной картофель был разослан по всем губерниям: местным властям поручалось распространять его среди горожан и крестьян. Известно, например, что в Архангельскую губернию предполагалось отправить 44 пуда (704 кг) семенного картофеля, хотя в конечном счете было послано всего лишь 24 [1088]. Вполне возможно, что именно это государственное мероприятие вкупе с упомянутыми поверьями и легендами послужило исходным толчком для цепной реакции эсхатологических ассоциаций, приведшей к появлению русского скопчества. Добавлю, в заключение, что, согласно записанному суздальским архимандритом Парфением рассказу Селиванова, самооскопление последнего произошло при точно таких же обстоятельствах, что и кастрация черта в сказке андреапольской крестьянки. «Мне было явление во сне, — рассказывал скопческий искупитель, — будто бы Господь Саваоф явился и говорит: „ты имеешь грех, и если ты его не отбросишь от себя, то не будешь в царствии небесном“. И показал мне нож большой, который лежал в сарае и был сильно раскален, и сказал: „возьми сей нож и проведи оным по телу своему, начиная от большого пальца правыя ноги до тайного уда; и ежели нож остановится на тайном уде, то отрежь его, и будешь счастлив и спасен“. Когда я проснулся, то пошел в сарай и нашел там нож, показанный мне во сне. Взяв его, пошел в ригу, которая в это время топилась с хлебом для молочения; положил нож в огонь и раскалил его так, как во сне видел; потом, взявши его, провел... по всей ляжке правыя ноги своея до самого тайного уда; и как только до него ножом довел, то в ту же минуту отрезал себе ‹яйца› и бросил их в огонь, которые в моих глазах и сгорели» [1089].
Автобиография культурного героя: «Похождения» и «Страды» Кондратия Селиванова
В заключение я хотел бы кратко остановиться на одном из наиболее примечательных памятников скопческой словесности. Это — двухчастная религиозная автобиография Кондратия Селиванова, получившая в сектантской традиции наименование «Похождения и Страды Искупителя». Памятник этот представляется весьма своеобразным в силу целого ряда причин, в частности — благодаря своему пограничному положению между фольклорной и литературной традициями.
Дискуссия о проблеме «наивной литературы», прошедшая на семинаре «Оппозиция устности/книжности в „низовой“ словесности и традиции „наивной литературы“» (ИВГИ РГГУ, 2000 г.) [1090], продемонстрировала чрезвычайную запутанность обсуждаемой проблематики, а также несколько пугающее разнообразие возможных исследовательских подходов в этой области. Прежде всего, остается совершенно неясной дисциплинарная и методологическая природа обсуждаемого понятия. Из какой системы берется доминантный (либо первоначальный) критерий определения наивной литературы: из эстетико-поэтической или социально-исторической? И категория «наивности», и категория «литературности» суть факты социальной (и, в частности, «филологической») рецепции определенных форм словесности. Наши представления о «высокой» и «низкой», «тривиальной» и «оригинальной», «элитарной» и «массовой», «устной» и «письменной» литературе в большей степени детерминированы актуальными социокультурными приоритетами, нежели абстрактными критериями формы, эстетики и поэтики. Поэтому даже в рамках сравнительно короткого исторического периода можно наблюдать самые противоречивые мнения о тех или иных градациях «изящной» и «не изящной» словесности [1091].