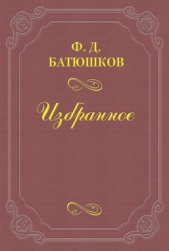Психология литературного творчества
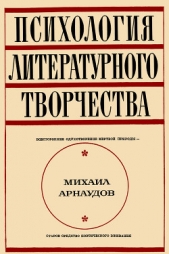
Психология литературного творчества читать книгу онлайн
Данный фундаментальный труд подводит своеобразный итог многолетним исследованиям автора по вопросам психологии художественного творчества и самого творческого процесса прежде всего с точки зрения личности творца художественного произведения, его опыта, его умения воспринимать и наблюдать, его творческого воображения, способности к вживанию и т.д.
Большим достоинством настоящего издания является то, что при его подготовке автор в значительной мере устранил спорные положения, идеалистические толкования отдельных авторов, обогатил и уточнил многие ключевые мысли с точки зрения более последовательного реалистического толкования творческих процессов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Понять эти внезапные взрывы исступления, эти неожиданные приступы печали, эти невероятные скачки извращённой чувствительности, воспроизвести эти остановки мысли, эти перерывы в умственной деятельности…
… Видеть бессмысленную улыбку, тупой взгляд, глупое и беспокойное лицо этих взрослых, угрюмых детей, которые ощупью, с болезненной неуверенностью переходят от идей к идеям и на каждом шагу стучатся у порога истины, которого они не могут переступить, — это способность, которой в равной степени с Диккенсом обладает только один Гофман» [612].
Поэты в ещё большей мере склонны поддерживать подобные взгляды о чём-то чрезвычайном, о чём-то коренным образом отличном от нормальной душевной жизни в процессе создания. Есть между ними фанатики-идеалисты, которые отрицают объективную ценность всякого опыта, подчёркивая настойчиво только реальность своих мечтаний. «Только то, что мы воображаем, достоверно, я не уверен ни в чём другом, кроме как в правде воображения», — говорит английский лирик Китс. Так и Жерар де Нерваль хочет убедить нас, что материальный мир для него является химерой, а невидимый — действительностью. Посредством какого-то странного полёта воображения он хочет реализовать свои мечты, не учитывая практические трудности. Теофиль Готье, близко знавший жизнь и творчество несчастного молодого человека, ясно видит, как эта страсть к проецированию сновидений, эта неутолимая потребность в создании образов вне времени и пространства с неизбежностью приводят его к болезненным галлюцинациям [613]. Далеко не так эксцентричен художник Делакруа, который тем не менее исходит из представления о преходящем характере всего действительного и о продолжительном существовании только достигнутого путём творчества и считает самыми реальными именно, иллюзии, которые создаёт его искусство.
Эти уверения имеют значение лишь как чисто поэтическая философия, в них говорит чувство эстета, отвернувшегося от житейской прозы, увлечённого блеском своих миражей и жадного к мистическому трепету, столь чуждому всякому натуралисту. Истина, скрытая там, не идёт дальше того познанного факта, что художники воспринимают сохранившиеся в памяти или созданные воображением картины в таких ясных и живых очертаниях, что могут использовать их как действительно виденное. Рафаэль, Гольбейн и другие живописцы пишут свои лучшие портреты в отсутствии моделей, по образам, запечатлённым в уме. Бёклин рекомендует своим ученикам изучать природу, усваивать её раз и навсегда, чтобы после, при написании пейзажей, в ней не было надобности и можно было бы копировать по памяти. А Леонарда да Винчи требует от живописца перенести в своё воображение даже самые мелкие черты образа, чтобы увеличить тем самым силу своей памяти и энергию своих впечатлений. Зависимость от модели является не чем иным, как чертой неразвитой памяти; только тот, кто упражняется в воссоздании внутренних образов, может стать свободным творцом [614]. Так же обстоит дело и в писательском труде. Вальтер Скотт заставил нас видеть его героев, слышать их речи, звон их доспехов, потому что сам очень ясно и осязательно представлял себе их. Шелли может внушить своим читателям такое же отношение к картинам, которые родило его воображение, как к реально воспринимаемым нами самими:
Но всё же между подобными видениями и подлинными восприятиями действительности надо проводить грань. Если последняя стирается и человек начинает видеть, слышать, чувствовать то, чего нет вокруг него, мы усматриваем в этом болезненные симптомы. Это уже галлюцинации. Характерным для них является как вера в объективное существование химер, так и отсутствие сознания собственного «я». Несомненно, поэт может быть живо возбуждён тем, что он себе представляет, принимать близко к сердцу события и людей, существующих в его воображении, забывать себя и доходить до болезненных переживаний. Но случаи эти вообще редки, не являются правилом. Тот же Флобер, который испытывает симптомы отравления, описывая смерть своей героини, решительно протестует против всяких параллелей между поэтическим вживанием и состоянием лунатиков, эпилептиков и других психически больных. Затемненное сознание последних не является тождественным состоянию поэта в творческом экстазе. «Не отождествляйте, — пишет Флобер Тэну, — внутреннее видение художника с видением поистине галлюцинирующим. Мне отлично знакомы оба состояния, между ними имеется пропасть. При настоящей галлюцинации наблюдается ужас, вы чувствуете, что ваше «я» убегает, вам кажется, что вы умираете. При поэтическом видении — наоборот, присутствует радость, это нечто, что входит в вас» [616]. Так называемые «настоящие галлюцинации» оказываются, с точки зрения психолога, чаще всего только внутренними раздражениями, ошибочно истолкованными, и все их отличие от «иллюзий» состоит в том, что за последними стоят внешние раздражения, опять-таки ошибочно истолкованные [617]. Достоевский, исходя из своего горького опыта, утверждает: «Галлюцинация есть преимущественно явление болезненное, и болезнь эта весьма редкая. Возможность внезапной галлюцинации, хотя и у крайне возбуждённого, но всё же совершенно здорового человека, — может быть, случай ещё неслыханный» [618].
Альфонс Додэ и братья Гонкур, близко знавшие Флобера, не принимают всерьёз его уверения, что он испытывал симптомы отравления при мысли об отравлении Эммы Бовари. Они припоминают слабость своего друга преувеличивать факты [619] и считают его рассказ столь же достоверным, как и исповеди Тартарена. «Галлюцинирующий художник с таким самообладанием и с таким острым и сильным критическим чувством, что иногда оно заслоняет творца» [620], — восклицает Додэ. Нет, этому Додэ не хочет, не может верить. Он допускает, что можно испытывать чувства героев, но без полного перевоплощения, не забывая о своей индивидуальности. Он сам ставит себя на место героя, когда надо, например, составить письмо от его имени, но в то же время спрашивает себя, бросая писать и перечитывая: а не принадлежат ли эти слова автору? Воображаемый герой или я говорю сейчас? Не свой ли опыт я ему приписываю? Мог бы герой слышать, знать эти слова в окружающей его обстановке? И т.д. Как бы ни был увлечён, «вдохновлён» Додэ, он всегда сохраняет здравый смысл. Даже когда он использует для отдельных эпизодов какой-либо странный образ, который не покоится на воспоминаниях, а приходит неожиданно, он нисколько не галлюцинирует. Так, например, в драме «Арлезианка» есть сцена, рождённая оптической иллюзией, которая введена среди мотивов, взятых из опыта, из наблюдения. Додэ однажды, как во сне увидел широкую равнину, залитую солнцем, подобно тем, по которым он путешествовал в Африке. На равнине стояли две женщины, и их силуэты ясно вырисовывались на фоне неба: они поднятыми руками защищали глаза от солнца. Эти женщины кричали, звали ребёнка, затерявшегося в пустыне, и их голоса, страшные и трагические, наполняли всё пространство. Но, как бы наглядно ни представлял себе эту сцену Додэ, он не потерял самообладания. Он только использовал видение и глубокую печаль, рождённую в его душе сочувствием, чтобы внести новый оттенок в подлинную историю, на основе которой создана драма [621].