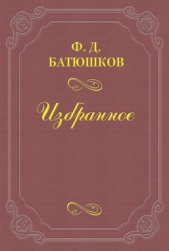Психология литературного творчества
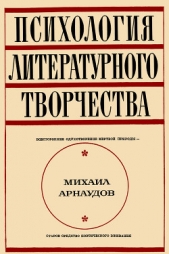
Психология литературного творчества читать книгу онлайн
Данный фундаментальный труд подводит своеобразный итог многолетним исследованиям автора по вопросам психологии художественного творчества и самого творческого процесса прежде всего с точки зрения личности творца художественного произведения, его опыта, его умения воспринимать и наблюдать, его творческого воображения, способности к вживанию и т.д.
Большим достоинством настоящего издания является то, что при его подготовке автор в значительной мере устранил спорные положения, идеалистические толкования отдельных авторов, обогатил и уточнил многие ключевые мысли с точки зрения более последовательного реалистического толкования творческих процессов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как раз здесь можно хорошо применить правильный взгляд известного русского философа и историка П. Лаврова. Подчёркивая, как романтическая эстетика была склонна приписывать поэтам и художникам какие-то «пророческие способности провидения прошедшего, настоящего и будущего в их истинном значении и смысле», и, противопоставляя ей понимание современной реалистической психологии, отрицающей всякую «способность доходить до понимания вещей и событий вне метода тщательного аналитического их изучения и осторожного систематического построения», он находит средний примирительный путь. Именно для него правдоподобным является то, что даже и при сравнительно слабом познании объективно данного и при недостаточно научном проникновении лица с развитым воображением всё же обладают в некоторых случаях чутьём на трудно уловимую связь между вещами и на некоторые самые характерные особенности. Оба теоретических взгляда не исключают друг друга в абсолютном смысле:
«Может быть, истинная роль художественного угадывания заключается между этими крайностями. Художник и поэт так же часто ошибаются и даже прямо искажают истину, как всякий другой смертный, не опирающийся на науку и последовательную критику. Но его способность улавливать характеристические черты образов и настроений, им воспринимаемых из окружающего его мира, иногда позволяет ему, даже при очень недостаточном умственном и нравственном развитии, угадывать комбинации явлений, которые ускользают от методического анализа учёного критика… Угадывание художника, — замечает он, — важно нам не в тех областях, которые видны всякому летописцу литературы, а в тех, где характеристические черты выступают во множестве мелочей, едва заметных или вовсе незаметных для подобного летописца, сливаясь более в общее настроение лица и общества, чем в определённые события и действия» [372].
Лавров имеет в виду в данном случае «глубокое поэтическое угадывание» Лермонтова, но его теория могла бы быть применена и к вопросу о Гёте. Она поясняет, во всяком случае, почему Белинский, проницательный критик, мог настолько восхититься романом Достоевского «Бедные люди», что просит Некрасова скорее привести к нему молодого, незнакомого ещё писателя, которому так пламенно говорит: «Да вы понимаете ль сами-то, что вы такое написали… Вы только непосредственным чутьём, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали?.. Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уже это понимали…» Но истина в том, что молодой писатель мог и в двадцать лет с помощью своего опыта и своей счастливой интуиции вникнуть в смысл общественной жизни, которую другие улавливали только абстрактно или поверхностно. «Мы, публицисты и критики, — продолжает Белинский перед смущённым Достоевским, — только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертою, разом, в образе выставляете самую суть, чтобы ощущать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг всё понятно». Очевидно, художественная, наглядная правда в состоянии сильнее воздействовать на воображение и таким образом производить впечатление открытия для людей прозаической или теоретической мысли.
С этих позиций надо сделать переоценку и мнения Макса Нордау, о чём уже говорилось выше, о каком-то таинственном даре угадывания у Бальзака [373], Против тех, кто был убеждён, что Бальзак силён как наблюдатель, как человек опыта, как социолог, как реалист и т.д., талантливый эссеист замечает: «Истина состоит в том, что он не более реалист или натуралист, чем Шекспир, Мильтон или Байрон. Его творчество ничуть не обязано (nicht das Geringste) наблюдению, наоборот, оно всем обязано предчувствию (Ahnung) и интуиции». И каковы доказательства Нордау? Он говорит:
«Мы знаем, как жил Бальзак. Где и как мог он наблюдать? Он преисполнен собой, он является сам для себя миром, целым миром и совсем не замечает мир других. Когда он с другими людьми, друзьями или чужими, он не даёт им говорить, а когда эти люди из более высокого социального класса, которых он не может прервать, он погружён в свои собственные мысли и то, что говорится вокруг него, не проникает в его душу. Когда он работает, он неделями подряд сидит взаперти и не видит ни единого человеческого лица… А когда он не работает? Это он делает непрестанно… Действительность не существует для него. Единственной действительностью для него являются герои его романов, их заботы, страсти и судьбы… Бальзак всегда черпает из собственных душевных глубин, никогда — из окружающей среды… В творчестве Бальзака я вижу монументальное доказательство того, что внешнее наблюдение для поэзии совершенно неважно» [374].
Нужна ли критика подобной идеи о происхождении образов и опыте писателя-романиста? Здесь речь идёт о романтическом предубеждении и методологической ошибке, которые вступают в противоречие со всем хорошо известным относительно жизни и творческого процесса знаменитого романиста. Достаточно было бы добавить к сказанному нами выше, что Бальзак может быть художником-ясновидцем (Seher) только потому, что обладает проницательным взглядом на душевное, и потому, что способен на самые смелые психологические эксперименты. Всё фактическое, что касается внешнего мира, общества, нравов, почерпнуто не из «собственных душевных глубин», а есть результат продолжительного и острого наблюдения; и необходимо только мощное воображение Бальзака, чтобы воскресить и претворить в жизнь эту действительность, чтобы внушить нам иллюзию, что новая действительность, созданная посредством сложных комбинаций некогда воспринятого и посредством осмысления загадочного, соответствует самой объективной истине. Предугаданное, антиципированное существует здесь постольку, поскольку наличные данные и психологическое углубление позволяют это всякому тонкому наблюдателю. «Монументальное доказательство» неважности наблюдения и внешнего опыта покоится только на псевдонаучном недоразумении или на любви к парадоксам.
Истина, частичная и лишённая мистического ореола, была высказана гораздо раньше Теофилем Готье в его очерке о Бальзаке. Сводя антиципацию к внутреннему сроднению и уподоблению, он говорит об авторе «Фачино Кане»:
«Бальзак обладал, подобно индийскому богу Вишну, даром avatar (перевоплощения), то есть даром перевоплощаться в различные тела и жить в них сколько ему угодно; но только, в то время как число avatars Вишну ограничено десятью, перевоплощения Бальзака нельзя пересчитать, и при этом он мог их вызывать по желанию… Бальзак был ясновидцем. Его достоинство наблюдателя, его проницательность физиолога, его гений писателя недостаточны для объяснения бесконечного разнообразия двух или трёх тысяч типов, каждый из которых играет какую-то роль, важную или второстепенную в «Человеческой комедии». Он их не копировал, он жил в них идеально, надевал их одежды, усваивал их обычаи, окружал себя их средой, превращался в них, насколько это было необходимо. Оттуда шли эти выдержанные, логичные образы, которые никогда не опровергаются и не забываются, одарённые интимным и глубоким существованием и способные, по его выражению, соперничать с гражданскими регистрами. Настоящая красная кровь течёт в их жилах вместо чернил, которые вливают своим героям обыкновенные авторы» [375].
Сколь мало антиципации даже в более невинном смысле, именно как догадке о видимых вещах, узнанных только издали, может быть в литературе, показывает пример с шиллеровским «Вильгельмом Теллем». Первый швейцарский рецензент драмы пишет: «Человек мог бы поклясться в том, что Шиллер большую часть своей жизни провёл в Швице и в Ури, среди пастухов, среди простого, скромного и здорового народа. Именно такими являются эти малознакомые альпийцы в часы испытаний… так думают, так действуют они» [376]. Шиллер очень верно уловил жизнь швейцарцев и даже характер местности, где совершается действие, хотя и никогда его нога не ступала по ту сторону Рейна. Можно было бы сказать: он пророчески видит страны и события, о которых только слышал, и в силу своей поэтической антиципации. Однако позже, когда прошёл восторг первых читателей, нашлись критики, как, например, Готфрид Келлер, которые придерживались мнения, что швейцарцы совсем не такие, как герои Шиллера, и что они только верят, что будут такими. Но несомненно всё же, что остаётся достаточно много правды в изображении исторического момента, пережитого нацией, и в описании природы. Первое обязано вживанию при помощи хроники, исторических исследований и этнографических трудов, а второе — точным географическим сведениям, собранным всеми возможными путями, как это хорошо известно сегодня из литературных источников. Без такой предварительной работы с книгами в руках немыслимы были бы удачные характеристики. А если добавим и отождествление автора с героями, при котором на последних переносится по родству душ то же стремление к свободе, которое свойственно молодому Шиллеру, мы поймём, как личные переживания и солидный косвенный опыт дают основание всему рождённому воображением, всему угаданному поэтическим духом, так что вне их для какой-то антиципации как магической стихии не остаётся места в творчестве.