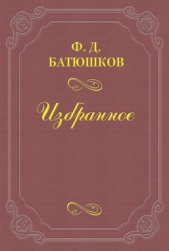Психология литературного творчества
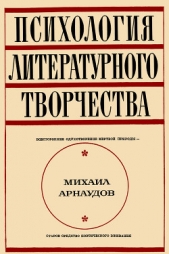
Психология литературного творчества читать книгу онлайн
Данный фундаментальный труд подводит своеобразный итог многолетним исследованиям автора по вопросам психологии художественного творчества и самого творческого процесса прежде всего с точки зрения личности творца художественного произведения, его опыта, его умения воспринимать и наблюдать, его творческого воображения, способности к вживанию и т.д.
Большим достоинством настоящего издания является то, что при его подготовке автор в значительной мере устранил спорные положения, идеалистические толкования отдельных авторов, обогатил и уточнил многие ключевые мысли с точки зрения более последовательного реалистического толкования творческих процессов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С точки зрения подобной теории наука и искусство обязаны своим прогрессом единственно счастливым гениальным прозрениям, а не утомительным наблюдениям и исследованиям, и все усилия обыкновенного ума выглядят жалкими в сравнении с быстрым и властным синтезом призванных обновителей. Антиципация всюду может открыть горизонты, каких ни разу не достигало простое восприятие или связанный с фактическими данными анализ. Она является каким-то сверхопытом, какой-то магической силой в познании и созидании. Художник, обладающий ею, спокойно может оставаться со своим «вдохновением»: оно никогда не изменит ему при изображении времён, характеров, общественных и других отношений, не знакомых ранее до мельчайших тонкостей; оно не нуждается ни в психологических экспериментах, ни в исторических справках, чтобы быть вполне точным. Всякое документирование не даст ему ничего больше того, что ему уже дано ясновидением. Как сказал эстетик Фридрих Фишер: «Гений знает мир, не изучив его (kenut die Welt ohn Weltkenntniss), он находит начала в самом себе и в своих переживаниях и обладает даром отгадывать (divinieren) по ним и то, что у других развивается из них». Как бы мог римский лирик Катулл (I в. до н. э.) изобразить в своём «Атисе» так правдиво душевное состояние поклонника фригийских мистерий, если бы он не обладал именно этой силой отгадывания? — думает историк литературы, приводя слова Фишера [357]. И наилучшим доказательством реального существования подобной магической силы он считает то, что все такие видения получают подтверждение в результате дополнительных наблюдений или расследований.
Одним из первых, кто заметил в себе эту таинственную силу, был итальянский поэт XVI в. Торквато Тассо. Он верил, что некий дух-покровитель направляет его в творческой работе, ему кажется, что кто-то шепчет ему во время писания. «Это, — думает Тассо, — дух правды и разума, который возносит меня к знаниям, превосходящим мой ум и всё же совсем ясным для меня. Он учит меня вещам, которые не появлялись в моей мысли даже при самом глубоком созерцании, о которых я не слышал ни от одного человека, не читал ни в одной книге» [358]. Так высказывается и немецкий поэт, который двумя веками позже воссоздаёт как собственную исповедь трагедию Тассо, видя в его лице своего духовного двойника и тип поэта вообще, с его страстями и с его идеалами. Говоря о возникновении не «Тассо», а своей первой драмы, Гёте отмечает, что он писал своего «Геца фон Берлихингена», будучи двадцатидвухлетним юношей, и десять лет спустя был удивлён правдой своего изображения. Ничего подобного он не переживал, не видел, следовательно, обладал знаниями о разнообразных человеческих судьбах по антиципации. В «Фаусте» он также склонен считать, что постиг пессимизм героя и любовные чувства Маргариты посредством такого дара. И когда его собеседник отмечает, что во всей этой глубокомысленной драматической поэме нет ни одной строчки, которая бы не свидетельствовала о внимательном изучении мира и жизни, он возражает: «Пусть так. Но если бы я с помощью антиципации не носил уже в себе весь мир, мои зрячие глаза были бы слепы, и всё исследование, и весь опыт были бы лишь мёртвыми, тщетными потугами» [359].
Наконец, и поэт музыки, Рихард Вагнер, считает создания гения удивительными и исключительными потому, что, если другие создают своё мировоззрение всегда на основе опыта, «поэтическое созерцание схватывает, помимо всякого опыта, благодаря своей собственной духовной силе то, что придаёт значение и смысл всякому опыту». В частности, говоря о себе в письме от 19/1—1859 г. к Матильде Везендонк, Вагнер считает, что его замыслы опередили его знания, например, «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Нибелунги», «Вотан», «Летучий голландец» были у него в голове, прежде чем он услышал что-либо о них. Однако люди посторонние, постоянно находящиеся под влиянием впечатлений, пришедших извне, не могли понять особого отношения художника к эмпирическому и всегда были склонны объяснять ясность его образов данными его памяти.
В этих и подобных им высказываниях содержится и субъективная истина, и ошибочная теория. Истина затрагивает некоторые несомненные свойства творческого духа. В моменты самого высокого духовного напряжения у художника возникают зрительные или слуховые иллюзии, отрывающие его от прозаической действительности, он испытывает волнения и желания, чуждые его спокойному сознанию. Опустив занавес перед восприятиями, забыв самого себя и сосредоточившись на предмете, на мотиве своего произведения, он сливается с героями, по крайней мере представляет себя в их обществе, видит их, слышит их, переживает их настроения и умеет нарисовать их так верно, постичь их личное «я» в их мыслях, чувствах и словах. В уверениях поэтов, что они слышали голос какого-то духа или слышали своих героев так ясно, как ясно видели внутренним взором сцены и эпизоды, которые воссоздаются, мы имеем только свидетельства повышенного вживания, к которому отчасти, хотя и в меньшей степени, способны все люди с живым воображением. Ничего странного или, по крайней мере, ничего патологического в этом нет.
Что касается, однако, утверждений некоторых художников, что им удавалось изображение состояний, обстоятельств и вещей, которых они никогда не знали и которые, тем не менее, соответствовали самой истине, здесь мы можем быть скептиками и даже занять отрицательную позицию.
Теория врождённых знаний, вполне сообразная с последующим опытом антиципации, не выдерживает серьёзной критики. В сущности, здесь мы имеем дело с самыми закономерными психическими процессами, а иллюзия чудесных открытий покоится только на недоразумении.
Прежде всего, здесь важны явления подсознательной или скрытой памяти (криптомнезия), о которых мы уже говорили выше. Для подсознательной сферы духа нет абсолютного забвения, а есть только относительное или условное забвение, основанное на нарушении ассоциаций. Психолог Флурнуа с полным правом утверждает, что случаи с вызовом воспоминаний, которые личность считает чем-то новым и неизвестным, гораздо более часты, чем обыкновенно считают. Он пишет: «И простые смертные, и самые великие гении подвержены этим lapsus памяти, которые имеют значение не для её содержания (так как именно оно возникает с точностью, которая иногда является мучительной и вероломной), а для местных и хронологических связей этого содержания (или о его характере чего-то «уже виденного»), которые бы заставили нас опознать его, как таковое, какое оно есть, и помешали бы нам невинно кичиться павлиньими перьями» [360]. И он приводит любопытные примеры, как Елена Келлер, известная слепая и глухонемая, сочинила сказку, которая, как оказалось, была прочитана тремя годами раньше, или как Ницше включил в своего «Заратустру» некоторые подробности из работы Кёрнера, которую философ читал, когда ему было 12 или 15 лет. Так не однажды «открывали» или «познавали» по псевдоантиципации, когда источники скрываются глубоко в нашем подсознании.
Но тут имеет значение и так называемое продолженное наблюдение, сущность которого мы уже отмечали, когда говорили о воображении как творческом принципе. В силу своей большой впечатлительности и глубоко запавших в душу видений поэт легко может возобновлять свои хорошо осознанные воспоминания и на их основе экспериментировать и комбинировать. По данным чертам характера он заключает, по аналогии со своим опытом, о других людях, о необходимых мыслях, чувствах и делах, хотя они и не даны уже непосредственно, как воспоминание. Он опирается, с одной стороны, на самонаблюдение, а с другой — на внутреннюю зависимость между отдельными свойствами человека. Ибо, как отмечает Гёте (по поводу своей антиципации о лицах), в характерах лежит «известная необходимость, известная последовательность», так что рядом с той или иной основной чертой идут некоторые вторичные. Раскрыть их и поставить в связь со словами и поступками нетрудно для наблюдательного. Не свидетельствуют ли и высказывания Гёте, Додэ, Бальзака или Гоголя о том, как по частично схваченным разговорам и когда под рукой есть ряд внешних признаков, свидетельствующих о внутреннем состоянии, писатель может составить себе представление о характере, интересах и общественном положении человека? Дальше уже нетрудно вывести необходимые в данном случае следствия. Такой драматург, как Франсуа де Кюрель, ясно представляет себе лица и ситуации, а затем заставляет своих героев вести воображаемый разговор, при котором автор как бы присутствует только как зритель, и так возникает весьма естественно диалог его социально-философских драм [361]. Таким же образом изображение характеров достигается и драматургом Фридрихом Геббелем, он любил выдумывать и в частной жизни, в обычной беседе. «Часто я рассказывал, — пишет он, — истории, которые никогда не случались, вкладывал в уста людей слова, каких они никогда не употребляли, и т.д. Это происходило не от злости или от любви ко лжи; наоборот, это — проявление моего поэтического таланта. Когда я говорю о людях, которых знаю, особенно когда хочу представить их другим, у меня происходит тот же процесс, какой наступает, когда я письменно изображаю характеры; мне приходят на ум слова, которые открывают самое сокровенное в этих людях, и к этим словам тут же естественнейшим образом приплетается какая-нибудь история» [362]. Об этом же свидетельствует и романист Моруа: