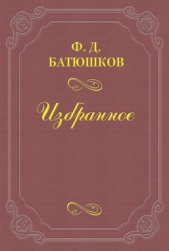Психология литературного творчества
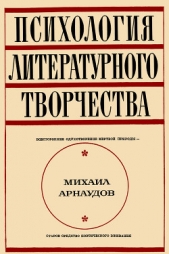
Психология литературного творчества читать книгу онлайн
Данный фундаментальный труд подводит своеобразный итог многолетним исследованиям автора по вопросам психологии художественного творчества и самого творческого процесса прежде всего с точки зрения личности творца художественного произведения, его опыта, его умения воспринимать и наблюдать, его творческого воображения, способности к вживанию и т.д.
Большим достоинством настоящего издания является то, что при его подготовке автор в значительной мере устранил спорные положения, идеалистические толкования отдельных авторов, обогатил и уточнил многие ключевые мысли с точки зрения более последовательного реалистического толкования творческих процессов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Мысль моя обращена далеко, далеко в прошлое: она летит в туманной и призрачной области времён забытых, канувших в океан вечности. Моё воображение как археолог при раскопках: ищет, роет, долбит в воспоминаниях детства и юношества; оно всё больше и больше увлекается в своих усилиях и находит в той отдалённой для меня эпохе вещи милые, образы странные, поросшие бурьяном забвения, и с наслаждением останавливается на них, и не желает с ними расстаться. Боже, при первом углублении его мотыги какой рой видений встаёт из кладбища умерших дел! И воскресают теперь в глубинах моей памяти бледные образы, и все такие милые и родные сердцу моему» [273].
С течением времени Вазов всё больше уделяет внимания в своей прозе этому роду воспоминаний, возникших, как противопоставление безнадёжности жизни. Он страстно любит эти «фиолетовые горизонты прошлого», с наслаждением погружается в «светлые иллюзии горячей веры в себя и в будущее», часто возвращается к далёкой эпохе, когда «жизнь ещё пела в его душе», нетронутой «горькими разочарованиями, унылыми грёзами» [274]. Такая же сладко-печальная нота звучит и у других болгарских беллетристов, когда они пишут свою повесть прошлого, и у каждого из них она приобретает личный оттенок в зависимости от темперамента и жизненной судьбы. Влайков, например, завершая свои бытовые новеллы, в которых чувствуется влияние Гоголя, Тургенева и других русских реалистов, пишет на старости лет свою большую хронику «Пережитое» (1934—1942), пространную и увлекательную сказку о радостных и печальных семейных событиях, о «беззаботных весёлых играх» и о «первой молодости с юношескими чувствами и мечтаниями» [275]. Идиллическо-эпический тон и искренний лирический трепет гармонически сочетаются там, и, может быть, как раз поэтому эти мемуары уцелеют скорее, нежели некоторые искусственно построенные рассказы автора. У Йовкова читаем нечто вроде Яворовской «Пасхи», вложенное в чужие уста, но носящие явно автобиографический характер:
«Как звонят колокола пасхальные. Я всегда это чувствовал только через трепет детских лет… Где та чистая хорошая радость!? Каждый год в это время вспоминаю один и тот же случай. Вспоминаю об этом и с умилением, и с какой-то горькой болью… Маленьким был тогда — шести-семи лет. Поднялись с постели и сидели у огня. А на улице били уже в колокола! Господи, какую радость чувствовал тогда! Казалось, что вся земля колышется в этих звуках и ангелы на улице поют. В канун больших праздников нам всегда шили что-нибудь новое. Будто и сейчас чувствую особый запах нового ситца, который чувствовал тогда, когда одевали меня в пасхальную обновку. Всё, всё ясно вспоминаю!.. Был у меня и другой брат… обладавший ужасным басом, нетерпимо и ужасно было его слушать. Он и тогда расплакался. Ясно вижу взгляд матери, этот незабываемый взгляд, в котором скрывался не укор и не угроза, а какая-то кроткая скорбь… Отправились в церковь. Помню огромное множество людей, с ярко освещёнными лицами от свечей, помню торжественный и таинственный обряд ночью, но ещё яснее помню глубокий мрак над морем из людских голов и над качающимися хоругвями…»
«Кандидат закончил свой рассказ. Невольно его волнение перешло ко мне. Шли те минуты, когда многие и далёкие воспоминания сразу пробуждаются и долго нас держат во власти сладкой» [276].
3. ВОСПОМИНАНИЯ И ТВОРЧЕСТВО
Эта необыкновенная долговечность впечатлений, полученных когда-то, их особенность появляться в зависимости от различных причин в цепи перед внутренним взором, вместе с живыми воспоминаниями о пережитом, имеют существенное значение для всякого творчества. Вошедшее в круг наблюдения и воспринятое как психический комплекс быстро не исчезает, оно всегда готово вновь возникнуть по первому зову художника, когда у него возникнет настроение работать над ним. Гоголь пишет о глубоко взволновавших его впечатлениях, которые он хочет сохранить в душе навсегда:
«… Вас вновь опускаю на дно души до нового пробуждения, когда вы исторгнетесь с большею силою…» [277] Поэт Гейбель говорит в одном письме, написанном в 1860 г.: «Несколько месяцев чувствую себя сносно и пишу стихи, потому что внезапно ожили и нахлынули на меня мои старые греческие воспоминания двадцатилетней давности» [278].
Бальзак, который признаёт, что обладал, как «неслыханной привилегией», необычайной памятью, говорит о своём двойнике Луи Ламбере:
«Его мозг, с ранних лет привыкший к трудному механизму концентрации человеческих сил, извлекал из этого богатого хранилища бесчисленное количество образов, восхитительных по своему реализму и свежести, которыми он питался во время своих проникновенных созерцаний.
— Когда я хочу, я опускаю на глаза вуаль, — говорил он мне на своём особом языке, которому сокровища его памяти придавали несказанную оригинальность. — Внезапно я погружаюсь в самого себя и нахожу тёмную комнату, где явления природы раскрываются в более чистой форме, чем та, в которой они появились сначала перед моими внешними чувствами» [279].
В другом месте Бальзак пишет: «Право, не знаю, почему я так долго таил про себя эту историю, которую сейчас изложу вам, — она входит в число диковинных рассказов, хранящихся в том мешке, откуда причуды памяти извлекают их, словно лотерейные номера; у меня ещё много таких рассказов, столь же необычайных, как этот, столь же тщательно запрятанных; вы верьте мне — их черёд тоже настанет» [280].
Есть поэты, как, например, Теодор Шторм, у которых фантазия и поэзия сводятся всецело к ретроспективному созерцанию, к верно сохраненным воспоминаниям, так что всю жизнь источником их образов остаётся пережитое на родине и в семье, лично испытанное, не претерпевающее существенной переработки при каком-либо вольном изложении [281]. Известно, насколько творчество Марселя Пруста обязано его феноменальной памяти. Особые обстоятельства его жизни заставляют Пруста упорно обращать взор к воспоминаниям. И его творчество — это фиксирование всего воскресшего в душе, всего, что сгинуло в прошлом. В своём доверии к памяти он доходит до того, что считает её настоящей создательницей действительности, внушающей большее доверие, чем непосредственные восприятия. «Цветы, которые мне были показаны сегодня впервые, не выглядят настоящими цветами… действительность формируется в памяти» [282]. Данные через призму прошлого, лица освобождаются от всего постороннего чувствам и иллюзиям, которые они у нас вызывали, и таким образом они приобретают очарование, исходящее из самой памяти и из того, что они не воспринимаются уже чувствами [283]. Но эта весьма субъективная теория делает парадоксальной истину, которая имеет свою законную опору в данных внутренней жизни и в характере творчества. Альфонс Додэ, который сам себя называет «машиной впечатлений», спустя многие годы помнит известные улицы Нима, где он проходил только несколько раз, помнит их «мрачными, холодными, тесными с запахом различных товаров», помнит их «с красками неба, со звоном колоколов, с испарениями магазинов» [284] поэтому и описывает их так живо. Для него, как и для многих других писателей, находить — значит вспоминать.