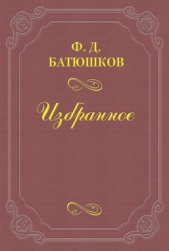Психология литературного творчества
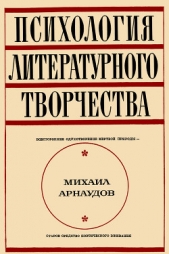
Психология литературного творчества читать книгу онлайн
Данный фундаментальный труд подводит своеобразный итог многолетним исследованиям автора по вопросам психологии художественного творчества и самого творческого процесса прежде всего с точки зрения личности творца художественного произведения, его опыта, его умения воспринимать и наблюдать, его творческого воображения, способности к вживанию и т.д.
Большим достоинством настоящего издания является то, что при его подготовке автор в значительной мере устранил спорные положения, идеалистические толкования отдельных авторов, обогатил и уточнил многие ключевые мысли с точки зрения более последовательного реалистического толкования творческих процессов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Многим способствует таким связям сосредоточенное внимание вместе с сильным эмоциональным волнением. Как только предмет стал интересным, вся душа раскрывается и восприятие входит не одно, а сопутствуемое сложной цепью представлений и других внутренних реакций. Эта согласованность не исчезает уже никогда, и если сопутствующие представления, воспроизведённые после, напоминают о главном, оно же, со своей стороны, напоминает о них. Эта особенность впечатлений имеет большое значение не только для простого воспроизведения, вызывания воспоминаний, но и для самого поэтического творчества. Марсель Пруст отмечает, что виденное когда-то в Балбеке, Венеции и Флоренции нераздельно связалось с пережитыми там волнениями, так что он не мог думать об этих городах, произнести или услышать только их названия, не перенесясь полностью в эмоции и фантазии, связанные с прежними восприятиями. «Если весной я встречал в какой-нибудь книге имя Балбек, этого было достаточно, чтобы пробудить во мне желание бури и нормандской готики, даже в дни бури упоминание о Флоренции или Венеции порождало во мне желание солнца, лилий, палаты дожей и святой Марии в цветах» [254]. Говоря о встречах и переживаниях в молодости у моря, Бальзак отмечает «те мелочи, которые воспоминание превращает позже в поэмы», тот мираж, «который часто скрывает окружающие предметы в момент, когда жизнь легка и сердца полны». И он заключает: «Самые прекрасные ландшафты обладают лишь той красотой, которой мы их наделяем» [255]. По поводу дорогих воспоминаний, проникнутых глубоким настроением, великий реалист говорит в другом месте: «Сердце тоже имеет свою память. Женщина, неспособная вспомнить самые серьёзные события, всю жизнь будет помнить вещи, важные для её чувств» [256]. Из подобного рода картин и настроений, приходящих часто в контраст с действительной обстановкой и чувствами данного момента, возникает не одно поэтическое произведение как акт внутреннего освобождения.
2. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ВОСПОМИНАНИЙ
Если необходимо искать объективные доказательства выдвинутых соображений о сущности впечатлительности и памяти, то самыми убедительными являются сами поэтические произведения и прямые указания поэтов, когда последние по различным поводам говорят об отношении между пережитым и воспоминаниями.
Так, например, в одной из своих книг Пьер Лоти пишет: «Эти следы улиток (речь идёт о следах на книге, оставленной в саду под дождём) сохранились надолго… Они имели свойство напоминать мне о тысячах вещей благодаря тем далёким ассоциациям, которые иногда возникают у меня среди самых разнообразных впечатлений, достаточно только если они однажды были сближены в благоприятный момент, по случайному совпадению времени» [257]. Если человек остановил своё внимание на чем-то, связанном с другими вещами по принципу досягаемости, времени, контраста и т.д., и если эти вещи не безразличны, а порождают приятные или неприятные чувства, имеют определённый эмоциональный тон и как-то особенно затрагивают наше я, мы не можем вспомнить эту вещь без того, чтобы не всплыли в сознании, хотя и помимо нашего желания, сопутствующие ей воспоминания. В цитированном стихотворении Яворова «Пасха» после первой строфы, которая выносит восприятия момента, идёт такое продолжение:
«Звонят, гремят колокола… С каждым новым ударом в памяти живое воспоминание сладко отзывается. Сердце на миг забывает тоску, что так травит его, и трепетно внемлет сказке прекрасной о детстве прошедшем, о днях невозвратных надежд молодых и снах золотых и вере наивной… когда жизнь течёт беззаботно и счастливо в отчем доме дорогом, когда неволя нас ещё не опустошила и не впрягла до гроба в ярмо тяжёлого труда.
Перед взором воскресают, проходят, как живые, вереницей образы дорогих и близких душе: то старый отец, погружённый в мечтания счастливые, ласкает дитяти дорогое, то ласковая мать, заглядевшаяся на мальчугана, то братья и сёстры, то весёлая дружина резвых сверстников, жужжащий рой пчелиный в игре и смехе, то русокосая подружка… и два смеющихся глаза».
Случайное слуховое восприятие, колокольный звон на пасху, служит здесь отправной точкой всей сложной картины и живого настроения. Связь звукового представления с другими образами и чувствами дана на опыте прошлого, оно спаяно с ними в силу особого внутреннего родства, и достаточно повода извне, чтобы воскресли перед духовным взором «дорогие и милые» тени или чтобы умом завладели мечтания и мысли. (Спенсер рассказывает в своей автобиографии [258], что одним из самых ранних воспоминаний его детства было воспоминание о колоколах в Дерби. Он был оставлен один в комнате, заперт, и в тот момент, когда он страдал от одиночества, вдруг раздался звон церковных колоколов. Так возникает прочная ассоциация между колокольным звоном и настроением в данный момент, и позже, в юношескую пору, он не мог слышать колокольный звон, не испытывая прежней печали.) Если в таком состоянии появляется и продуктивное настроение, то композиция произведения обычно бывает навеяна цепью воспоминаний, обогащённых новыми впечатлениями, запавшими в сознание. Такой случай имел место у Ламартина, с той лишь разницей, что зрительное впечатление вызывает звуковые представления и переживания, связанные с воспоминаниями о далёком прошлом. Ламартин обстоятельно описывает отчий дом, где провёл своё детство, показывает его нам извне и изнутри, говорит нам об обстановке и обитателях, заставляет нас почувствовать даже домашний запах и, наконец, завершает так:
«Вот гнездо, которое столько лет оберегало нас от дождя, стужи, голода и ветра; гнездо, куда смерть приходила поочерёдно, чтобы взять отца или мать, и откуда дети вылетали, одни в одну сторону, другие в другую, третьи в вечность… И хотя оно теперь пустует, холодное и лишённое всех этих настроений, я люблю видеть его, люблю там спать иногда, как будто при пробуждении услышу голос своей матери, шаги своего отца, весёлый галдеж сестёр и весь этот шум молодости, жизни и любви, который звенит только для меня под его старыми сводами и у которого нет никого, кроме меня, чтобы слушать его и повторять ещё немного времени» [259].
Руссо, отец романтической чувствительности, у которого учился и Ламартин, также подчёркивает свою верную память на виденное и пережитое. Какой поэзией окружены его детские воспоминания, когда он в семи-восьмилетнем возрасте был отдан на обучение к пастору Ланберсье, знают все читатели его знаменитой «Исповеди». Даже спустя тридцать лет он уверенно и с волнением вспоминает подробности пережитой идиллии [260]. Говоря вообще о своём прошлом, в той же книге Руссо настаивает на точности своих воспоминаний: «Я вспоминаю место, время, тон, взгляд, жест, обстоятельство, ничто не ускользает от меня». В данном случае он даже помнит «температуру воздуха, краски и ароматы, все отличительные особенности обстановки», не меньше и «сладкие чувства в свои лучшие годы» [261]. Толстой следующим образом подчёркивает неотразимую очаровательность своих воспоминаний в самые ранние годы:
«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, как не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений… Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная весёлость и беспредельная потребность любви — были единственными побуждениями в жизни?» [262]