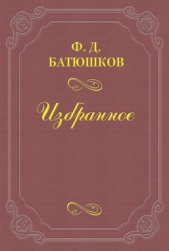Психология литературного творчества
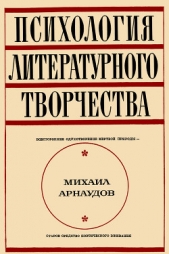
Психология литературного творчества читать книгу онлайн
Данный фундаментальный труд подводит своеобразный итог многолетним исследованиям автора по вопросам психологии художественного творчества и самого творческого процесса прежде всего с точки зрения личности творца художественного произведения, его опыта, его умения воспринимать и наблюдать, его творческого воображения, способности к вживанию и т.д.
Большим достоинством настоящего издания является то, что при его подготовке автор в значительной мере устранил спорные положения, идеалистические толкования отдельных авторов, обогатил и уточнил многие ключевые мысли с точки зрения более последовательного реалистического толкования творческих процессов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
5. ЗРИМЫЕ ОБРАЗЫ И КАРТИНЫ
Но остановимся на этой серии мнений и противоречивых взглядов, возникших в длительной борьбе в поисках истины, и посмотрим на вопрос со всей полнотой современного знания фактов и их психологического смысла.
Если одни усматривают в поэзии только зримые образы, другие целиком отбрасывают способность языка выражать их и вводить; и если первые делают упор на возможно более точное и предметное воспроизведение действительности, вторые переносят центр художественного умения исключительно в область формального или языкового переживания. Мы стоим здесь перед дилеммой, которая уже из-за этой остроты полемики и из-за упорства, с каким придерживаются и сегодня этих точек зрения, заставляет нас искать более новой постановки всей проблемы. Потому что несомненно, что практика как поэтов, так и прозаиков очень далека от одностороннего упрощения вопроса теоретиками. Притом последние часто впадают в грубую ошибку, возводя в норму своё собственное отношение к искусству, признавая единственным способом художественного создания или воспринимания свой личный метод мышления, свою частную впечатлительность при чтении, просмотре или прослушивании произведения.
Вопрос о зримых образах в поэзии сводится собственно к следующему: выступают ли в сознании действительно настоящие чувственные представления или же мы думаем, что имеем таковые там, где со строго психологической точки зрения наличествуют только их словесные эквиваленты или совсем иррациональные, даже подсознательные переживания? Этот вопрос следует решать как на основе общих психологических соображений о характере поэтического творчества, так и на основе свидетельств, которые дают нам отдельные поэты, предпринявшие тщательные самонаблюдения в этом направлении.
Что касается общего психологического анализа, то никто не оспаривает, что конкретные представления о вещах, воспринятых через чувственные органы, поистине возможны и что мы можем воссоздавать картины и тона, некогда воспринятые нашим зрением или нашим слухом. Разногласия начинаются с момента, когда некоторые утверждают, что язык поэта стремится исключительно к такому чисто внутреннему созерцанию или слушанию — оставим в стороне низшие ощущения, для которых не столь важно, порождают ли они образы в сознании, — и что без него нельзя говорить о настоящем поэтическом воздействии. Очевидно, то, что является делом единичных моментов или присуще определённому типу художников, нельзя возводить в общую характеристику стиля и переживания. Но этого нельзя и отрицать. Важно показать природу этой «наглядности», чтобы не впасть в доктринерство, перечёркивающее оттенки. Фенелон в своём диалоге о красноречии говорил: «Живописец и поэт.. один рисует для глаз, другой — для ушей; тот и другой должны вносить предметы в воображение людей» [1379]. Так думали не только в XVII, но и в начале XX в. Реми де Гурмон, например, является теоретиком парнасцев и живописной поэзии, когда сводит весь поэтический талант к способности воспроизводить виденное, когда считает глаз единственным поставщиком материала поэту и когда называет В. Гюго с его сильно развитым зрением и обширной зрительной памятью типичным представителем поэтической наблюдательности. Подчиняя чувствительность зрительным ощущениям и представлениям, сводя воображение к простой комбинации элементов, схваченных на основе опыта, и выводя стиль из самого созерцания и воспринимания, Гурмон одновременно является последователем Лессинга и толкователем классической французской поэтики с её стремлением к объективности и материальной правде в искусстве. Поэтому он в таком восторге и от средневековой «Песни о Роланде». «Это не какая-нибудь поэма, это — сама жизнь, зафиксированная и схваченная не в пространстве, а во времени; здесь дано не искусство, а сама суровая действительность с её светом, её движениями, её очертаниями и её тенями» [1380].
Действительно, элементы всего этого имеются в поэзии. Но каждый ли, читая «Песнь о Роланде», улавливает внутренним взором этот свет, эти движения, эти очертания и тени, и необходимо ли всякому читателю реагировать одинаковым образом на изображение — это весьма сомнительно, имея в виду, что какой-либо ландшафт вызывает у живописца видения, а у музыканта — звуковые гармонии. Объективно язык может рисовать картины и вызывать ощущения только постольку, поскольку читатель вообще в состоянии себе ясно представлять, переживать мысленно видимую действительность со стороны порождаемых ею прямых впечатлений. Фехнер в своей «Психофизике» излагает результаты одного опроса о живописи и ясности зримых образов, вызванных по воспоминанию или через воображение у разных лиц [1381]. И мы убеждаемся, что имеется достаточно длинная лестница, ведущая от лиц с подобными зримыми образами, выступающими во всей их чувственной свежести, но таких, у которых образные элементы сводятся к самой слабой, туманной картине, без контуров и без единой краски. То, что наблюдается здесь при искусственном воспроизведении, повторится, естественно, и при художественном впечатлении: кто вообще способен вызывать осязательные картины, тот и при прочтении книги будет иметь достаточно ясные зрительные или другие представления. И наоборот, некоторые читатели не смогут и при наличии самой доброй воли мысленно видеть, а будут улавливать только через слова те более субъективные содержания, которые не имеют ничего образного и сенсорного, ничего доступного для глаза или слуха. Найти вполне объективный критерий того, насколько оправдана описательная поэзия и в каких размерах можно воспроизвести рисунок внешне данного, трудно уже потому, что эстетик не исходит из психологических расположений, одинаковых для всех. В этом смысле и границы, которые мы поставили выше, имеют значение постольку, поскольку вообще возможно практически прийти к нейтральному взгляду.
Известные писательские дарования мы должны оценивать именно по принятому и ценимому Гурмоном методу. По крайней мере одну из самых значительных сторон их стиля надо видеть в их искусстве подводить читателя к внутреннему созерцанию, воздействовать на его воображение. Не только Гюго имеет вид человека, говорящего каждому предмету: «Войди хорошо в мои глаза, чтобы я вспомнил о тебе!»; не только он сочиняет так, как видит. Этот тип живописцев слова — данное обозначение взято во всей его относительности, — эта пластическая поэзия, этот образный стиль мы встречаем очень часто в истории литературы. Когда Вазов, например, рисует природу, и притом так, что явно у него сохранились живые воспоминания о ней, и когда он хочет передать своему читателю определённую картину точно такой, какой её сам созерцал — а это явствует из подбора черт и слов, — мы имеем все основания причислить его с учётом этой стороны его творческой психики к типу поэтов со зрительным воображением. В «Великой Рильской пустыне» мы читаем:
«Со всех сторон меня обступали тысячи безмолвных деревьев. Высокие прямые стволы с белой корой, словно мраморные колонны, поддерживали зелёный сказочный свод: и местами «колонны» коренились, налетая одна на другую, источенные, изъеденные зубами времени… Но ни один из этих живых гигантов не покривился, не согнулся, любопытствуя увидеть трупы своих товарищей. Нет, стремясь к небесной лазури, каждый тянулся ввысь, себялюбиво радуясь тому, что павшие уступали ему своё место в воздухе и своё право на солнце и небо. Кое-где буковый лес редел, расступясь вокруг полян, гладких, как тока. Всё чаще выглядывали из тенистой гущины огромные скалы, поросшие тёмно-зелёным мхом: время от времени попадались участки, заросшие высоким и жёстким бурьяном» [1382].