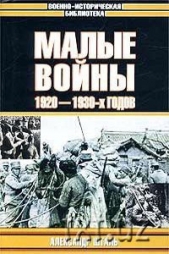«Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов

«Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов читать книгу онлайн
В центре исследования Игоря Вишневецкого (и сопровождающей его подборки редких, зачастую прежде не публиковавшихся материалов) — сплав музыки и политики, предложенный пятью композиторами — Владимиром Дукельским, Артуром Лурье, Игорем Маркевичем, Сергеем Прокофьевым, Игорем Стравинским, а также их коллегой и другом, музыкальным критиком и политическим публицистом Петром Сувчинским. Всех шестерых объединяло то, что в 1920–1930-е самое интересное для них происходило не в Москве и Ленинграде, а в Париже, а главное — резкая критика западного модернистического проекта (и советского его варианта) с позиций, предполагающих альтернативное понимание «западности».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ни Стравинский, ни Пикассо в том, что они осуществляли, ни в коем случае не могут быть отнесены к той категории ценностей, которую я обозначил как «искусство без искусства». В музыке и живописи к ней относится то, что в современном официальном, т. е. признанном, искусстве находится на периферии этих артистов. Поскольку подлинное искусство не может не быть выражением национального или универсального опыта, даже тогда, когда оно отказывается от идеологической связи с ним и осуществляется помимо него в плане только формальном и методологическом, постольку Стравинский и Пикассо были выразителями всего, что произошло в минувшее десятилетие. Музыка Стравинского и живопись Пикассо — документальное свидетельство об исторической хронике этого времени, равно в аспекте эстетическом, как и этическом, политическом и социальном. Схемы Пикассо не были простой оглядкой на прошлое с целью реставрационной. Он создавал новые ряды отношений, только параллельные старой живописи, а не восстанавливающие ее. Формальный метод Пикассо, служа конструктивным целям, одновременно устанавливал уравнение между вновь возникающим и минувшим. Живописная природа Пикассо, будучи конкретным отображением современности, в то же время находится в добром согласии с любой подлинно живописно-конструктивной эпохой прошлого, будь то наивная варварская архаика или же геометрическое мышление раннего итальянского ренессанса. Стравинский от современности отвернулся с брезгливым чувством. Он на иных основаниях, чем Пикассо, ушел в прошлое, в котором возрождает к жизни то, что находит созвучным не столько общесовременному канону, сколько личному ощущению. Его экскурсы в прошлое обусловлены не столько принципами формально-конструктивными, как у Пикассо, сколько формально-этическими. Но и тот и другой упорно возвращаются к минувшим культурам, призывая ряд ценностей прошлого к вторичному существованию, в условиях уже современного нам бытия. Каждый из них делает это по-иному и на разных основаниях. В этом существенное различие между этими артистами, имена которых в современности все же уместнее всего называть рядом. И Пикассо, и Стравинский властно подчинили живопись и музыку своему опыту, поглотив все частные художественные процессы в современности, которые, вольно или невольно, оказывались вовлеченными в их сферу. Объяснение этому в том, что позиции, захваченные этими двумя, обозначили не только огромное поле деятельности в сфере современного искусства, но и уходят по радиусам во все те области прошлого, которые в какой бы то ни было связи с современным искусством могли быть установлены в этом плане. Конечно, лишь те частные процессы могут быть здесь уравнены, которые связаны одной общей линией, которые могут быть объединены господствующей в данный момент формально-эстетической концепцией как искусства формально объективированн[ого], т е. внеиндивидуального, безличного и внеэмоционального. Все индивидуалистические процессы в современном искусстве остаются здесь вне поля зрения для данного момента. Рядом с Пикассо и Стравинским должен быть назван Валери, эстетическая концепция которого является, по существу, раскрытием основных тенденций, властно утвердившихся в передовом кругу артистов этого направления в последнем десятилетии. Валери уводит в иную сферу, в область поэзии и поэтики. Об этом отдельно.
О Рахманинове (1928)
Скажу сразу, без оговорок. Я люблю Рахманинова — его силу, его старомодность, все бытовое в его музыке и в нем самом. И это не впечатления от его недавнего концерта [*], а давно определившееся отношение к нему. Его концертное выступление скорее внесло долю разочарования, поставив границы тому отвлеченному и романтическому представлению, которое создалось из почти детских воспоминаний. Впоследствии образ Рахманинова часто терял свое обаяние, при редких и разорванных столкновениях с его сочинениями (всегда досадно раздражавшими) и от молвы о его «сверхъестественном» пианизме. В Европе и Америке в толпе любителей музыки Рахманинов как композитор — самый популярный из русских. Тираж его сочинений огромен, как пианист Рахманинов является своего рода чемпионом мира, вроде Демпсея или Теннея в боксе… [*]
Я не вижу разлада между Рахманиновым-композитором и пианистом. Его искусство, композиционное и исполнительское, одноприродно. Одна и та же музыкальная культура питает оба рода его деятельности. То, что он так доступен массам, что его сочинения и его игра создают исключительно непосредственный контакт с толпой, «демократичность» его артистической природы — вот в чем одно из высших достоинств Рахманинова. В этом «гуманистичность», простая человечность его искусства, и этому он обязан своей всемирной славой. Иное дело то, чем он свою музыку «наполняет». В этом наполнении причина того, что создало ему справедливую оппозицию, давно возникшую и существующую до сих пор в передовых кругах. Рахманинов всегда был и остался вне передовой музыки. В период петербургско-московского модернизма на Рахманинова отчасти была перенесена та вражда, которая существовала в то время в русском (а теперь европейском) модернистическом обществе в отношении Чайковского, т. к. Рахманинов себя с Чайковским связывал. В тот период Рахманинов был едва ли не единственным из видных музыкантов (кроме С. И. Танеева), принявшим Чайковского, которого все «передовые» музыканты стыдились и замалчивали. Но большая публика Чайковского любила всегда и непосредственно, и, благодаря близости Рахманинова к нему, симпатии к Чайковскому отчасти по наследству перешли к Рахманинову и определили связь между ним и толпой. Это произошло быстро с выходом в свет его первых фортепианных пьес, которые сразу и исчерпывающим образом выразили всю музыкальную сущность Рахманинова. Дальше ему к этому почти что нечего было прибавить. В настоящее время вряд ли существует в любой стране дом, где имелось бы фортепиано и не было бы известной прелюдии в до-диез-миноре [*]. В свое время в России эту пьесу играли повсюду, в таком же гипнозе, как когда-то декламировали «Записки сумасшедшего» Апухтина или стихи Надсона. Даже Вербицкая упоминает о ней в своем романе «Ключи счастья».
Позднее Рахманинов пытался подойти к модернизму: его романсы на слова Блока, Брюсова и Белого и его концертные выступления, посвященные Скрябину (дань памяти тогда только умершего артиста враждебного и чуждого Рахманинову мира), свидетельствуют об этом. Эта попытка сближения с модернизмом успеха не имела. В дальнейшем Рахманинов остался окончательно в стороне от новых течений. Оставшись в стороне от всех, этот исключительно одаренный русский музыкант, казалось, все-таки был предназначен для большого и серьезного дела. Любовь его к Чайковскому была верным и чистым знаком для всего его пути. Теперь, когда модернизм отшумел и кончился, стало ясно, к сожалению, что из этой предназначенности ничего не вышло. Странно так говорить при огромной славе Рахманинова, но это ничего не меняет: ибо слава — славой, а дело, которое должно было быть и на которое он имел право, — не вышло. Антагонизм Рахманинова к современности обратился в упрямое и ложноакадемическое ретроградство. У него не оказалось ни чутья к поступательному движению, ни искания уровня современного музыкального сознания, ни подлинного стремления утвердиться в культурных основах прошлого. В отношении к Чайковскому Рахманинов стал поздним эпигоном, без понимания формального смысла Чайковского, его живой и современной природы и подлинного существа его творчества. К сожалению, сочинительство Рахманинова свелось на потребу тем, кому не нужны ни подлинная музыкальная культура, ни хотя бы вещи хорошего вкуса. Для Рахманинова собственная интерпретация стала дополнением к своему творчеству, все более иссякающему [*], а интерпретация чужого — живой поправкой к своей композиторской деятельности. Пианизм Рахманинова расцвел на этой почве с необычайной силой. Он раздвинул границы фортепьянной игры до каких-то нормальноположенных пределов; кажется, что в таком типе виртуозности дальше идти некуда. Говорю нормально положенных, потому что Бузони (для которого, кстати, исполнительство также было поправкой к личному неудавшемуся творчеству) достигал ошеломляющих эффектов, но Бузони пользовался приемами искусственнойтехники и расцвечивая фортепьянную фактуру колористической звучностью, как бы инструменту[я] ее и играя преимущественно тембрами. Техника Рахманинова исключительно нормальная, она не выходит за границы фортепьянных звучностей в собственном смысле. Он — графичен и дает всегда сухой, в звуковом смысле, ясный и бескрасочный чертеж, не вводя в него никаких чуждых пианизму элементов. В этом смысле технику Рахманинова следует по праву считать классической. Она является высшим развитием концертно-салонного стиля XIX столетия, сохраняя живую связь с большой традицией этого стиля.